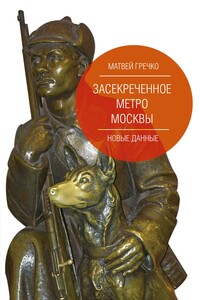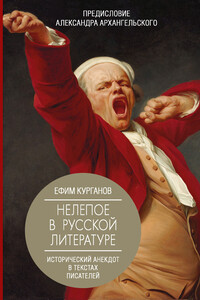Чеширская улыбка кота Шрёдингера. Мозг, язык и сознание | страница 43
Необходимо заметить, что и сами функционально возникающие и когнитивно обусловленные ансамбли имеют иерархическую организацию, то есть могут быть подмножествами других. Допущение такой организации необходимо, например, для объяснения структуры соответствующих семантических репрезентаций (в частности, гипонимов и гиперонимов). Возможность такой «оркестровки» объясняет процессы языкового научения в раннем онтогенезе, примиряя нативистов и коннекционистов. Она логичнее объясняет и данные афазиологии, например нарушения языковых процедур при любой модальности предъявления стимула (традиционные подходы сталкиваются со значительными трудностями при необходимости объяснить такую мультимодальность).
В случае если модель динамичных и распределенных нейронных ансамблей верна, становится гораздо менее загадочной компенсаторная перестройка функций, особенно когда поражены или просто удалены основные речевые зоны.
В исследованиях К. В. Анохина показано, что во взрослой нервной системе, в отличие от эмбриональной, включены механизмы самоорганизации поведенческих функциональных систем, что ставит морфогенез в мозге при обучении под контроль системных, когнитивных процессов. Идея о том, что на молекулярно-генетическом уровне обучение продолжает процессы развития, составляя эпизоды дополнительного морфогенеза во взрослом мозге, имеет исключительные последствия для разработки моделей работы мозга, материалом для чего служат исследования нейрональной экспрессии генов при развитии и обучении. В результате реактивации во взрослом мозге морфорегуляторных молекул нервные клетки приобретают при обучении способность к перестройке своих синаптических связей в составе модифицирующихся или вновь образующихся функциональных систем. При этом основные молекулярно-генетические элементы и этапы этого молекулярного каскада оказываются весьма сходными при обучении и развитии [Анохин, 2001].
Особый поворот приобретает и столь кардинальный для человека как вида вопрос латерализации высших функций, в первую очередь языковых [Davidson, Hugdahl, 1995; Балонов и пр., 1985; Chernigovskaya, 1994; Chernigovskaya, 1996; Chernigovskaya, 1999; Pulvermuller, 1999; 2002; Crow, 2000]. Чем больше мы узнаем о гемисферных механизмах обеспечения когнитивных процессов, тем менее очевидна их латерализация в левом полушарии. Более того, все отчетливее видно, что речь вообще не идет о латерализации неких «объектов» (фонем, слов, грамматики, зрительных образов и т. д.). Противоречивые факты, ставившие в тупик многих исследователей и ломавшие привычные уже парадигмы полушарностной организации высших функций, вполне объяснимы, как только мы переходим к нейросемиотическому описанию и говорим о разных знаковых системах или о разных способах обработки информации (одной и той же!), о разных когнитивных стилях (см. в связи с этим [Манин, 2009; Финн, 2009]). А это значит, что мы говорим о динамической организации процесса, каждый раз новой или наиболее вероятной в зависимости от контекста. Речь идет не о бинарности, а о континууме между левополушарным и правополушарным полюсами, где доля участия латеральных ансамблей балансирует в зависимости от решаемой мозгом задачи. Вопрос о роли латерализации в развитии человека ставился многократно и в разных аспектах — роль генетических факторов и среды (например, типа обучения или культуры), половой диморфизм, разная скорость созревания гемисферных структур, разная скорость протекания нервных процессов (что могло, например, повлиять на особую роль левого полушария в анализе требующих большой скорости обработки фонематических процедур со всеми вытекающими из этого для языковой доминантности последствиями).