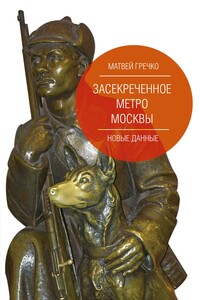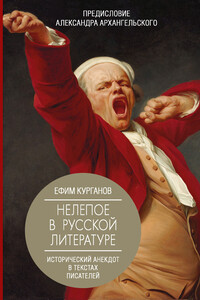Чеширская улыбка кота Шрёдингера. Мозг, язык и сознание | страница 105
Идея попытки построения некой универсальной грамматики приходила в голову многим и до Хомского, но именно он разрабатывает ее последовательно, тщательно и продуктивно. Генеративисты, в конечном счете, утверждают, что мозг — это биологический компьютер, функционирующий на основе виртуальных сетей с «картами», отражающими, вероятно, генетически закрепленные универсальные языковые правила, которые актуализируются с помощью конкретного национального языка, слышимого ребенком (см., например, [Pinker, 1991; Pinker, Bloom, 1990; Bloom, 2002]). Система эта подчиняется определенным принципам и параметрам, изложенным в ряде работ Хомского. Словарь, согласно этим теориям, формируется за счет научения, а синтаксис развивается в процессе созревания мозга, но на основе «врожденной грамматики с ее символическими правилами». В то же время коннекционисты в разных вариантах в итоге сводят все к так называемому единому механизму, когда основой всех языковых процедур является ассоциативная память.
Таким образом, мы сталкиваемся с оппозицией школ, сводимой к схеме детерминизм (= врожденность языка) против «хаоса» или идей научения на основе частотностей, прогноза и предсказуемости. По Пинкеру, эволюция сделала рывок, что привело к обретению мозгом способности к цифровому вычислению, использованию рекурсивных правил и ментальных репрезентаций и к созданию основы для мышления и языка в человеческом смысле. Далее языковая способность привела и к формированию арифметического кода как базы математики. В основе всего этого, утверждает известная часть научного сообщества, лежит мутация, приведшая к возникновению «гена языка», а стало быть, к выделению человека как вида [Crow, 2000; Andrew, 2002].
Отметим более или менее установленные основные положения.
Критический возраст усвоения языка детьми хотя и противоречиво датируется, но существует: «условия игры» таковы, что если вовремя не поместить ребенка в языковую среду, то развертывание и формирование необходимых алгоритмов не происходят. Пластичность мозга — в первую очередь именно для высших кортикальных функций и прежде всего для речи — ухудшается после семи лет. Причем, похоже, именно для высших кортикальных функций, прежде всего — для речи.
Все чаще отмечается роль мотивации, коммуникативной ситуации — желания быть понятым, то есть не только корковых структур мозга, но, например, лимбической системы. Значит, как минимум, дело не только в языковом модуле как таковом, но и в других системах — не специфически языковых, и притом общих у нас с другими высшими видами. Коммуникативная значимость настолько важна, что если виртуальная речевая сеть по каким-то причинам дефектна, то частично это может быть компенсировано за счет других ресурсов, в том числе паралингвистических: так мозг компенсирует функциональные или даже органические нарушения [Paradis, Gopnik, 1997].