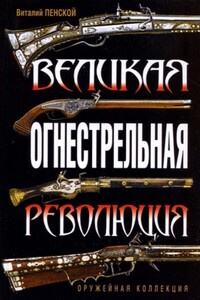«Полоцкий» цикл | страница 4
Как это выглядело на практике, можно узнать, к примеру, из царской «памяти» боярину В.М. Юрьеву, который отправился в начале 1554 года к Сигизмунду II править посольские дела. В «памяти» говорилось, что ржевич Васька Воротников со товарищи отправился было — перемирие ж на дворе, не война! — ловить рыбу на Пуповские озера, что неподалеку от Заволочья, и заночевали в деревне Рыболово. Да на беду Васьки и его артельщиков «пришли на них в полночь литовские люди, конные и пешие, да их били и грабили и секли, и деревню выграбили, и животину выгнали, а у иных людей носы резали, а у иных людей ноги ломали, а иных многих рыболовей без вести нет…».
Другая рыбацкая артель, сорок человек, во главе с мужиками Дубенского стану Терешкой и Манулкой, была побита и ограблена полоцкими людьми, которые взяли у рыбаков «пять неводов (9–10 алтын за штуку, а в алтыне 3 копейки), да десять лошедей с санми и с хомуты («комплект» стоил примерно полтора рубля минимум), да пять возов рыбы (телега стоила примерно 25–30 алтын, а то и рубль), а с них сняли сорок сермяг, да сорок шуб, да сорок колпаков, да сорок шапок (хоть исподнее оставили, и то слава Богу. Кстати, сермяга стоила примерно 10 алтын, так себе «шубейко» порядка 15 алтын, «шапченко» 5 алтын, колпак — 1–3 алтына), да дватцать топоров (по 2 алтына за штуку), да десять пешень (за пешню минимум 2 алтына), да со всех сорока человек сняли по рукавицам (пара — примерно 2 алтына)…». Другие же полоцкие люди, воеводские, посадские да наемные жолнеры гарнизонные, на Нещерде да в Озерявках «хлебы снопом посвохили, и сена посвозили за реку за Нещерду, а иные многие сена пожгли в Озерявках до Белово озера».
Перечень взаимных обид можно продолжать до бесконечности. Любая из них могла послужить той искрой, которая зажгла бы костер большой войны — противоречия между Москвой и Вильной, копившиеся чуть ли не со времен Ольгерда и Дмитрия Ивановича, не только не разрешались, но продолжали исправно накапливаться. И как тут не вспомнить, что масла в огонь взаимной неприязни подлило и требование Москвы именовать в грамотах, обращенных к Ивану, русского государя царским титулом, на что категорически не был согласен Сигизмунд. Решение же проблемы, тем более радикальное, с возвратом полоцкой «