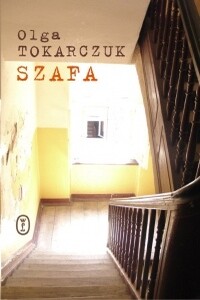Книги Иакововы | страница 13
Ксендз готов дать голову на отсечение, что все это появление женщины с девочкой предназначено было только тому, чтобы поглядеть на него. Событие! Ксендз в еврейском доме! Экзотичный, словно саламандра. И что с того? Разве не лечит меня врач – еврей? И не растирает ли для меня лекарства другой еврей? Ну а вопрос книг, это, в какой-то мере, тоже вопрос гигиены.
- Книги, - говорит ксендз, указывая пальцем корешки лежащих на столе фолиантов и эльзевиров[12]. На каждом из них золотистой краской выписаны два знака, которые ксендз принимает за инициалы владельца, древнееврейские буквы он способен узнать древнееврейские буквы:
Ксендз обращается к собственному билету в этом путешествии к народу Израиля и осторожно кладет перед Шором привезенную с собой книгу. При этом он триумфально улыбается, ибо это Turris Babel Афанасия Кирхера, творение, крупное как с точки зрения содержания, так и формата, и ксендз многим рисковал таща ее сюда. А, не дай Бог, она упала бы в вонючую рогатинскую грязь? А вдруг ее вырвал бы у него какой-то разбойник на базаре? Без нее ксендз декан не был бы тем, кем является, а сделался бы, скорее всего, каким-нибудь ограниченным приходским священником, иезуитским учителем при господском дворе, тщеславным чиновником Церкви, с пальцами в перстнях и ненавидящим весь мир.
Он подвигает книгу поближе к Шору, словно представляя тому собственную супругу, и осторожно постукивает по деревянной обложке.
- У меня их имеется больше. Но Кирхер – самый лучший. – Он открывает книгу на первой же попавшейся странице, и вместе они глядят на рисунок Земли, изображенной в виде шара, с длинным и вытянутым конусом вавилонской башни на ней.
- Кирхер доказывает, что Вавилонская Башня, описание которой имеем мы в Библии, не могла бы быть столь высокой, как это здесь представлено. Башня, достигающая самой сферы Луны, нарушила бы весь космический порядок. Ее основание, опирающееся на земном шаре, должно было бы быть громадным. Она заслонила бы солнце, что имело бы катастрофические последствия для всех созданий. Люди должны были бы потратить все запасы дерева и глины на Земле…
Ксендз чувствует себя так, словно бы провозглашал ереси, и он даже и не знает толком, а зачем вообще говорит все это молчащему еврею. Он желает, чтобы тот посчитал бы его приятелем, а не врагом. Вот только, будет ли это возможно? Быть может, и удастся договориться, хотя и не знают они ни своих языков, ни обычаев своих, ни один другого, ни своих вещей и понятий, ни улыбок, ни жестов рук, ничего; так, может, удастся пообщаться с помощью книг? Разве это вообще не единственная возможная дорога? Если бы люди читали одни и те же книги, то жили бы в том же самом мире, тем временем – живут в иных, словно те китайцы, о которых писал Кирхер. А есть и такие, и их целая масса, которые вообще не читают, разум у них спит, мысли простые и животные, словно те мужики с пустыми глазами. Вот если бы он, ксендз, был королем, то приказал бы один день барщины предназначить на чтение, все крестьянское сословие загнал бы к книгам, и Жечьпосполита тут же бы стала по-другому выглядеть. Быть может, это даже проблема алфавита – что не существует только один, но их много, а каждый ведь по-другому формирует мысли. Алфавиты – они словно кирпичи – из одних, выжженных и гладких, появляются соборы, из других, глинистых и шершавых - обычные дома. И хотя латинский алфавит наверняка самый совершенный, но ведь, похоже, Шор латыни не знает. Поэтому ксендз показывает хозяину пальцем гравюру, а потом еще одну, и еще, и видит он, как тот склоняется над изображениями с нарастающим интересом, так что под конец даже вытаскивает откуда-то линзы, хитро оправленные металлической проволокой – ксендз Хмелёвский сам хотел бы иметь такие, нужно будет спросить, где такие можно заказать. Переводчик тоже, оказывается, заинтересован, так что все втроем склоняются они над гравюрой.