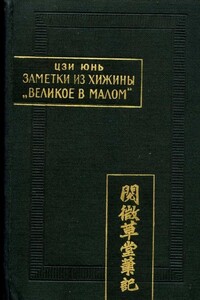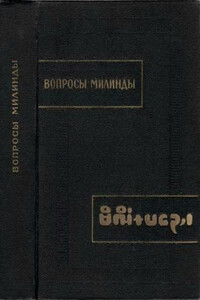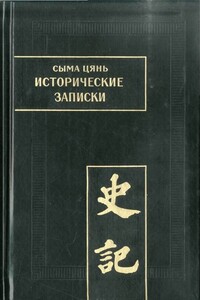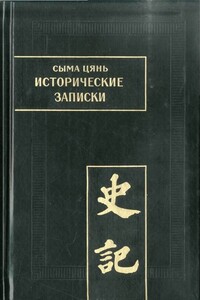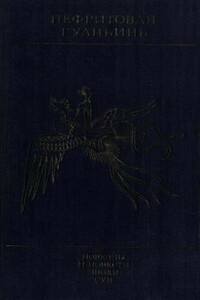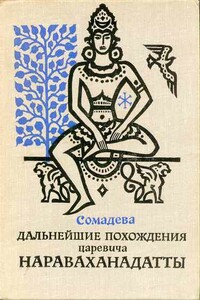Исторические записки. Т. IV. Трактаты | страница 11
Хотя в гл. 23 нет описания деталей ритуала и разнообразных обрядов, созданных в древности на все случаи жизни, но в сжатом виде дано ясное представление как об идейной сути учения о ли, так и о месте ритуала и правил поведения в общей системе общественной жизни Китая периодов Чжоу-Хань. С позиций современного научного знания можно утверждать, что создание системы обрядов ли и ритуала и в древнекитайском обществе преследовало цель определить оптимальные модели поведения всех слоев общества во имя обеспечения безопасности классового государства и всей системы угнетения и эксплуатации народа; материал гл. 23 дает, как представляется, все основания для подобного вывода.
Гл. 24, Юэ шу — «Трактат о музыке», касается другого важнейшего компонента конфуцианской идеологии — музыки (юэ), тесно связанной в представлениях того времени с ли. Если ли, как мы видели, определяло социальные границы человека в обществе, то музыка была призвана воздействовать на чувства людей, сближать их духовно и тем самым поддерживать единство общества, цементировать различные общественные слои в государстве. «Трактат о музыке», как уже упоминалось, состоит из трех частей. В первой части, начинающейся со слов: «Я, тайшигун .. скажу так» — обычное свидетельство того, что повествование идет от лица самого Сыма Цяня, бегло излагается история создания музыкальных мелодий, связь музыки с различными событиями в древней истории Китая. Кроме того, во вступительном разделе изложены некоторые, прежде всего конфуцианские, представления о «совершенном муже» цзюнь-цзы, которому только и могут быть доверены бразды правления и который, как сказано в главе, «щедро одаривает [людей] своими милостями и благодеяниями, а с помощью песен и гимнов побуждает их ревностно трудиться». Здесь же подчеркивается, что музыка «вводит в определенные рамки [людские] радости», «служит уменьшению и сокращению [желаний]», т. е. воспитывает и улучшает нравы, способствует установлению социальной гармонии в обществе. Таким образом, на первый план сразу выводится государственный характер музыки, ее воспитательное значение. Французский ученый Лэлой писал, что «в теократическом и патриархальном Китае музыка не была частным делом, это был [государственный] институт. Глава государства жаловал своему народу музыку, творцом которой он был сам и через которую излагал свои наставления» [24, с. 15].