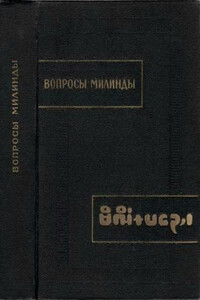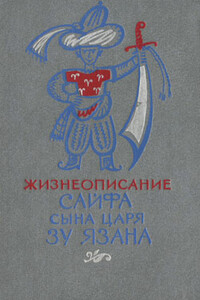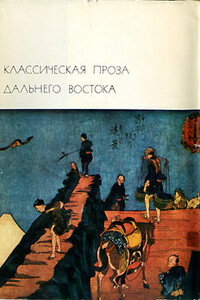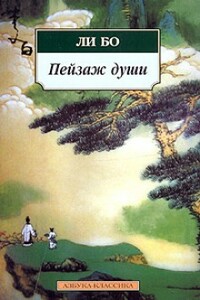Заметки из хижины "Великое в малом" | страница 71
«Главная задача европейского образования, перенесенного на русскую почву, заключалась в умягчении нравов общества и в водворении тех гуманных идей, которые были выработаны энциклопедистами и которые за каждым отдельным лицом требовали признания его человеческого достоинства. Ту же задачу имела и журнальная сатира»[156], требовавшая «сообразного с человеческим достоинством поведения»[157], осмеивавшая все, что противоречило «общественному благу и вечной правде»[158].
Таким образом, цели, которые ставили перед собой русские и английские просветители XVIII в., были аналогичны тем целям, которые преследовал своими назидательными рассказами Цзи Юнь. Как для них, так и для Цзи Юня литература была средством борьбы с конкретными нравственными пороками общества.
При всем различии социальных условий, при всей национальной специфике литератур объекты критики у Цзи Юня и европейских просветителей-моралистов были одни и те же: дурные нравы, нелепые обычаи, невежество и суеверия, злоупотребления чиновников. И Цзи Юнь, и западные эссеисты пропагандировали образование и воспитание, верили в то, что положительные примеры, давая образцы для подражания, могут способствовать изменению нравов к лучшему.
Определенное сходство наблюдается и в форме их произведений: и у Цзи Юня, и в сатирико-нравоучительных журналах используются морализующие анекдоты[159], разговоры мертвых, сны, сюжетные повествования (в английских журналах — «восточные повести»), рассуждения; есть сходство и в их структуре: А. А. Елистратова отмечает, что публиковавшиеся в журналах Стиля и Аддисона материалы отличались «необычайной жанровой синкретичностью» — в них совмещались «в зародыше и газетная хроника — «смесь», и фельетон, и публицистический памфлет, и литературно-критическая статья, и проповедь, и юмористическая или серьезная новелла...»[160]. Тот же «синкретизм» имеет место и в сборниках Цзи Юня, где, как уже отмечалось ранее, анекдоты или серьезные рассказы (несущие в себе элемент «проповеди») перемежаются публицистической заметкой, научной информацией, критикой стихов и т. п.[161]. Сходство наблюдается и в способах характеристики персонажей. Основу почти каждого номера журналов Стиля и Аддисона помимо эссе составляли также очерки, характеры в которых были, как правило, функциональными, используемыми в дидактических, а не в художественных целях. Типические характеры в этих очерках можно было найти гораздо чаще, чем индивидуальные. «Изображаются ли характеры прямым описанием, косвенно — через поступки — или путем соединения двух этих методов; характеризуют ли персонажи сами себя, или их характеризуют другие; становится ли тип человека очевиден из нескольких его поступков, или описательных фраз, или из краткой биографии, — каким бы ни был используемый метод, цель одна и та же: изображение некоей типической фигуры ради ее нравственной и дидактической ценности»