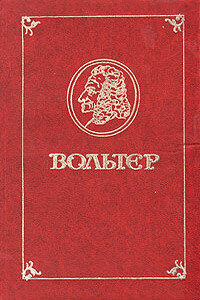всегда»: в вопросе было:
κακόν τι ἐργάζονται τοὺς ἀεὶ ἐγγυτάτω <…> ὄντας (25 C); – «причиняют зло находящимся
всегда вблизи»; теперь стало: …
ἀεὶ τοὺς «
всегда причиняют зло находящимся вблизи»), то он, Сократ, делая кого-нибудь из своих близких дурным, тем самым рисковал бы, что этот ставший дурным причинит ему впоследствии какое-нибудь зло; поэтому Сократ не мог развращать юношей добровольно, а: или совсем не развращал, или развращал невольно, и в последнем случае должен был бы подлежать не суду, а поучению; значит, Сократ вообще не подлежит суду и каре (
25 С‑27 А). Вполне очевидно, что если признать всерьёз эту аргументацию, то не подлежит суду не только Сократ, а вообще всякий преступник, так как эта аргументация с таким же основанием могла бы быть приведена в защиту любого преступника (это не мешает, однако, Сократу обвинять Мелета в том, что тот зол на него и привлекая его к суду, хочет только, очевидно добровольно, отомстить за обиды). Этой аргументацией отвергается самое существование суда и кары, разрушаются все устои общественной жизни, и так как в Афинах не была узаконена свобода слова, то за одну эту маленькую часть своей защитительной речи Сократ мог бы быть признан виновным и в развращении, с точки зрения социальной, юношества, и в расшатывании устоев отечества. Но Сократ был настолько практическим мыслителем, он был настолько связан с реальной земной жизнью и чужд утопиям, что было бы совершенно нелепым предполагать серьёзность в его устах аргументации подобного рода; если же Сократ серьёзно утверждал, что человек не совершает зла добровольно, то это положение имело существенно иной смысл, чем какой ему придан, из софистических целей, в «Апологии» (об этом позднее).
В третий раз Сократ возвращается к беседе с Мелетом, желая, как будто, чтобы Мелет точнее формулировал обвинение в развращении, но в действительности стараясь сделать обвинение как можно менее ясным: «Скажи, Мелет, каким образом, по-твоему, я развращаю юношей?», но не давая возможности Мелету ответить на этот вопрос, сейчас же продолжает, «не ясно ли из жалобы, внесённой тобой, что (я развращаю тем, что) учу не чтить богов, которых чтит город, а другие, новые божества? Не говоришь ли ты, что я развращаю, обучая этому?» Если бы Мелет имел возможность ответить на первый вопрос, он мог бы указать, что Сократ развращает юношей не только в религиозном отношении, но и в политическом, путём своей софистической деятельности, и мог бы даже сослаться на сказанное перед тем Сократом, как на пример развращающей софистики. Но Сократ, конечно, не дал ему возможности указать на это, продолжая говорить сам и переведя внимание обвинителя на обвинение в безбожии. Так как Сократ формулировал обвинение, как могло показаться Мелету, даже более точно, чем как оно формулировано у обвинителей, то Мелет поторопился подтвердить: «Да, я говорю совершенно то самое», – а в результате получилось впечатление, что Сократ обвиняется в развращении юношества только в области религиозной, и дальше Сократ только против этого обвинения и защищается.