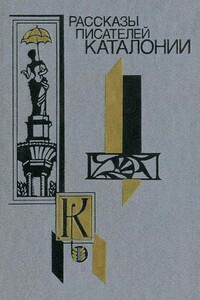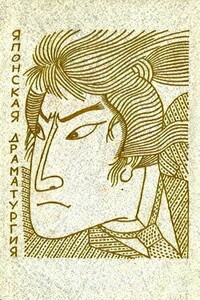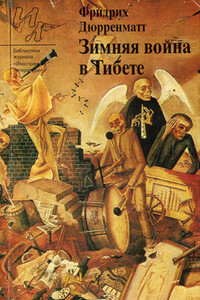Война начиналась в Испании | страница 6
Да и могло ли быть иначе, если к началу тех событий в Испании литература переживала свой второй золотой век? Литераторы так называемого «поколения 1898 года» — Мигель де Унамуно, Рамон дель Валье-Инклан, Пио Бароха, Асорин, Мачадо и другие — продолжали работать, были не просто общепризнанными мэтрами испанской словесности, но и властителями дум. И уже вступили в жизнь, находились на взлете духовных и творческих сил представители «поколения 1927 года» — блистательное созвездие талантов дерзких, отважных, искавших непроторенных путей: Федерико Гарсиа Лорка, Рафаэль Альберти, Мигель Эрнандес, Луис Сернуда, Леон Фелипе, Висенте Алейсандре, Педро Гарфиас, Эмилио Прадос, Рамон Хосе Сендер, Франсиско Аяла, Хосе Бергамин и многие другие.
Особого расцвета в канун гражданской войны достигла поэзия; казалось, проза (и прежде всего роман) в те годы не поспевала за бурным течением событий. Но и из-под пера прозаиков выходили интересные, яркие вещи. «Кто из нас не помнит общее настроение тех лет, упоение, с которым мы отвергали давно устоявшееся и утверждали свое, полные готовности подвести черту под прошлым и одним ударом создать что-то небывало новое, другой мир, живой, динамичный и блестящий, — вспоминал в 1949 году о той поре Франсиско Аяла. — Слово принадлежало нам, молодым… И мы испытывали чуть ли не чувственное наслаждение, играя образами, метафорами, глаголами, мы, потрясенные, радовались открывающемуся перед нами миру, стремясь передать его богатство через язык…»[11].
Поразительно при этом, что, несмотря на удивительное несходство темпераментов и личных склонностей, приверженность к разным школам и направлениям, которых в Испании тогда было великое множество, несмотря на бурные перепалки в литературных журналах в защиту все новых «измов», представители того поколения художественной интеллигенции были тесно связаны между собой живыми творческими нитями, а многие и крепкой личной дружбой. «У всех нас общий путь, который мы прошли рядом до того момента, когда кровавая драма гражданской войны вторглась в наши судьбы», — говорил полвека спустя Рафаэль Альберти[12].
Такая общность, не мешавшая поразительному разнообразию характеров и творческой манеры, объяснялась, безусловно, глубоким и подлинным, без деланной позы, уважением к народу, из глубин творчества которого литераторы черпали силы для своей работы. Эстетическую платформу, выражавшую и этическую позицию большинства писателей той поры, четко выразил Антонио Мачадо: «Стучитесь в двери каждого сердца, каждого сознания. Не человек для культуры, но культура для человека, для всех людей, для каждого из людей…» Ему вторили его более молодые соратники по перу. «Ни один настоящий человек, — писал Федерико Гарсиа Лорка, — уже не верит в эту чепуху о чистом искусстве, об искусстве для искусства. В эти драматические дни художник должен плакать и смеяться вместе со всем народом»