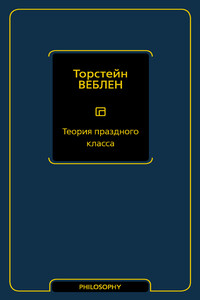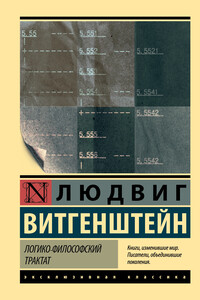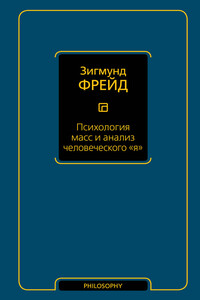Общественное мнение и толпа | страница 31
Но мне не хотелось бы кончить на этой пессимистической мысли. Я склонен, невзирая ни на что, верить, что те глубокие социальные преобразования, которыми мы обязаны прессе, совершились в целях конечного объединения и умиротворения. Заменяя собою более древние группировки или наслаиваясь на них, новые группировки, как мы видели, носящие название публики, охватывающие все больший район и приобретающие все большую плотность, не только заменяют царством моды царство обычая, новизной – традицию; резкие и несокрушимые подразделения между многочисленными разновидностями человеческой ассоциации с их бесконечными конфликтами они заменяют неполным и изменчивым делением с неясными границами, беспрестанно возобновляющимися и взаимно проникающими друг в друга. Таково, кажется мне, должно быть заключение этого длинного исследования.
Но я прибавляю, что было бы глубокой ошибкой приписывать коллективностям, даже в их наиболее духовной форме, честь человеческого прогресса. Всякая плодотворная инициатива в конце концов исходит от индивидуальной мысли, независимой и сильной; и для того, чтобы мыслить, нужно изолировать себя не только от толпы, как говорит Ламартин, но и от публики. Это-то именно и забывают великие сторонники народа, взятого в целом, и они не замечают некоторого рода противоречия, которое заключается в их аналогии. Они проявляют удивление к великим деяниям, так называемым анонимным и коллективным деяниям, только для того, чтобы выразить свое презрение к индивидуальным гениям, кроме своего собственного. Также заметим, что эти знаменитые поклонники одних масс, презиравшие всех людей, в отдельности были чудовищами гордости. После Шатобриана и Руссо никто, может быть, более Вагнера, если не считать Виктора Гюго, не проповедовал так сильно теорию, по которой «народ есть двигатель искусства», а «изолированный индивидуум сам не мог бы ничего изобрести, он может только присвоить себе общее изобретение». Это одно из тех коллективных восхищений, которые не льстят ничьему самолюбию, как безличные сатиры, которые никого не обижают, потому что они неясно обращены ко всем вместе.