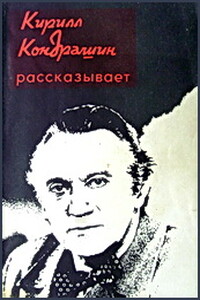Диалоги о музыкальной педагогике | страница 9
В.: И все-таки не совсем понятно, в чем проявляется субъективность метра? Ведь метр в конце концов — единица измерения объективная, так сказать, величина музыкальной материи.
О.: Отмечая первую долю, то есть осознавая ее и определяя чувством (особенно в завершении и в начале фразы), вы вырываете ее из хаоса и наделяете значением. Вы проявляете себя человеком, отличающимся от других каким-то своеобразием. Чем? — Тем, что на слабом времени, на слабой доле вы наделяете метр, время музыки, структуру своим личным смыслом. Это можно сделать на дистанции тяготения - в таких структурных единицах, как большие такты, фразы, части и т. д. Музыка оживает.
В конечном счете, метрономическая игра будет отличаться от личного участия в метре, как конвейер отличается от ручной работы...
В.: Есть, однако, большая неконкретность в этих рассуждениях. Какое всеобщее значение мы придаем сильной доле и какой именно ”свой” смысл мы видим в слабой доле, говоря о нашем музыкальном поведении?
О.: Метр, то есть неметрономическое пришествие первой, сильной доли, требует поступка. (Как у поэта: ”Чтоб звучали шаги, как поступки...”) У ребенка обнаруживается каприз, и в этом проявляется его личность, характер. Вот он, играющий на флейте, ”ослушался”. Не подчинился заведенному порядку — самому-по-себе (как у всех) прибытию, наступлению первой доли. Флейтист преподнес ее по-своему, почти неуловимо задержал, но отметил, отделил, обозначил.
Метрономически точно и объективно правильно — это безлично. Задержать и обозначить ”чуть-чуть” можно только индивидуально, отметив ”собою”, - и чувством и сознанием. В обозначении (или наделении значением) , осмыслении (или наделением личностным смыслом) есть свой каприз, то есть жизнь, характер, а не машинообразность.
В.: Но ведь у нас есть много других средств для того, чтобы проявить характер, чувство, индивидуальность, каприз и прочее?