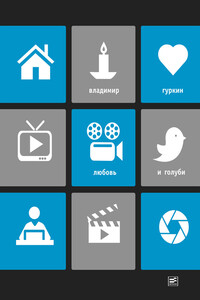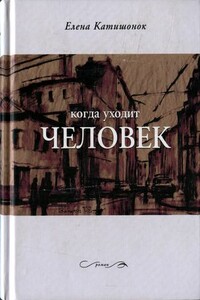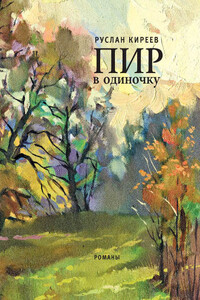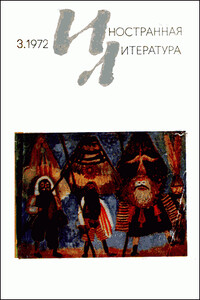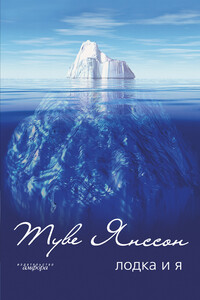…
Уроки польского, румынского, английского. Ускоренный курс… Семена тыквы, кинзы, петрушки… Школа рукопашного бесконтактного боя. Секретная методика КГБ СССР… Шавло Гриша, 8 лет. Фесенко Хома, 11 лет. Выехали на велосипеде из села Борисовки… июля 2015 года в неизвестном направлении. Домой не вернулись. Всем, кто видел пропавших детей, просьба позвонить в райотдел полиции, по телефонам… Слева от этого, последнего объявления было приклеено оно же, но по-украински, справа — черно-белые ксерокопии двух фотографий: скуластого мальчика с острым, как копье, подбородком — это был Гриша, и другого мальчика, постарше, с полноватым круглым и мягким лицом. В том ксероксе, похоже, истощился картридж — глаза пропавших детей вышли стертыми, об их выражении нельзя было сказать ничего уверенного. Я никогда не видел внука Натальи и уж тем более — его товарища Хому, пропавшего с ним вместе, но я глядел в их невнятные глаза на стене и понимал, что этот вечер, эта несчастная погоня, и ломотье в ногах, и пересохший рот, и этот миг на незнакомой мне, ненужной автостанции в малознакомом мне поселке — все, что со мною сейчас происходит, и все, что будет происходить со мной потом — оно и происходит и произойдет из-за того, что эти неизвестные мне дети не вернулись домой. Вернись они домой, и Авель без волнений отпустил бы от себя Татьяну на одинокую привычную велосипедную прогулку — Татьяна не взбрыкнула бы, чему бы не нашлось причины, не поменяла бы маршрут, и все бы было как всегда… Теперь же — где она теперь? и что она теперь? и что я, Господи, наделал…
Я вышел вон, и сразу же заголосил мобильник. Я глянул на экран — это, разумеется, был Авель, и я не знал, что ему сказать; не понимал, как с ним разговаривать. Я был вполне готов выслушать все, что мне придется выслушать, и это не было смирением, и смелости тут было ни на грош — нет, это было отупение от полной моей беспомощности… Я отозвался на звонок. Авель сказал без предисловий:
— Гони до дому — все в порядке: она нашлась. И ты смотри — ты сам не потеряйся; с меня уже достаточно всей этой дурни.
Я возвращался, освещая себе путь лучом чудесной галогенной фары. Я думал о Татьяне уже без тревоги и досады, но с огромной нежностью. Мое измотанное, потное, будто смолой набрякшее тело по-прежнему ломало от боли, но сам я был воздушен, легок и умилен до приторности — не человек, а облако сахарной ваты. Забыв об осторожности и то и дело отпуская руль, ведя велосипед «без рук», ни капли не боясь быть сбитым насмерть каким-нибудь беспечным ездоком и ничего уже на свете не страшась, я во все горло пел во тьме, и мне казалось, что моим романсам отзываются, гудя над головой, невидимые провода… Романсы, то есть, были не мои, — Морфесси и Вертинского, — но я их пел с таким глубоким, гордым чувством, словно они были моими.