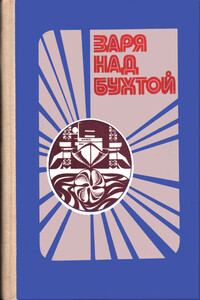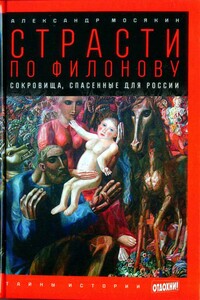Антология истории спецслужб. Россия. 1905–1924 | страница 2
А что же Россия? Она заметно отставала в этом деле от названных стран. Не в пример немцам, российские полководцы в войне с Турцией (1877–1878) как будто толком и не ведали, что помимо войсковой разведки уже народилась новая отрасль в военном деле — стратегическая разведка и контрразведка. Спустя четверть века — в Русско-японской войне 1904–1905 гг. — все повторилось снова, но в более трагических масштабах. И сами военные, и те, кто взирал на войну со стороны, свои и иностранные специалисты, единодушны во мнении, что Россия не изучила Японию силами стратегической разведки, а также не задействовала все необходимые средства для противодействия ее подрывным и разведывательным усилиям накануне и в ходе войны. Горькие уроки этой войны явятся самым сильным стимулом для энергичного строительства российской разведки и контрразведки. Они вошли в боевой строй русской армии и государства с определенным запозданием, лишь в 10-е гг. XX века.
В чем причины? Русский ли здесь менталитет, элементом которого является простодушие и доверчивость русских как нации? Смешно так думать, зная ее многотрудную тысячелетнюю историю. Привычка «работать» преимущественно грубыми военными методами, не жалея жизней солдатской «скотинки», зная, что на смену выбывшим из строя непременно придут выносливые, неприхотливые воины, которых бессчетно нарожают русские бабы? Такое суждение, может быть, и было отчасти справедливо для глухого средневековья, когда господствовало крепостное право, но обстоятельства-то изменились кардинально. Армии становились массовыми, каждый потенциальный воин заранее был занесен и подсчитан в соответствующих сводках мобилизационных подразделений Генштаба. «Тупость» царизма и, соответственно, бездарные его генералы как прямое свидетельство деградирующей политической системы? (Любимое объяснение большевистских идеологов.) Наивно и слишком просто. Государственная система была дееспособна. Доказательством тому является пусть половинчатая, но реальная модернизация политических структур, осуществленная под натиском мятежных сил (революции 1905–1907 гг.), успокоение страны и последовавший за этим бурный экономический подъем.
Историософская мысль о том, что темпы развития исторического сознания в разных культурах далеко не одинаковы, кажется слишком банальной без анализа действительных (конкретных) причин их проявления в той или иной сфере, В изучаемом вопросе, на наш взгляд, все сказанное, конечно, нельзя сбрасывать со счета, но глубинные причины «отставания» лежат в другом.