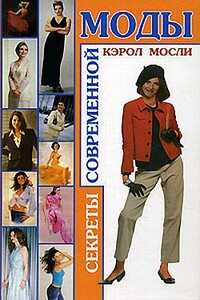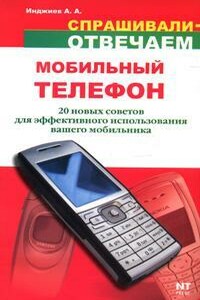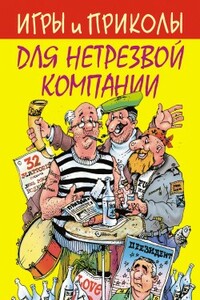Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации | страница 51
С этой точки зрения весьма интересно проанализировать стереотипы, бессознательно заложенные в одну из вещей в коллекции Джорджо Армани 2011 года, работая над которой, модельер черпал вдохновение в традиционных японских формах, тканях и фасонах: «По парижским улицам расхаживает теперь гейша, которая на самом деле никакая не гейша, а некое видение Японии, мечта, образы, отпечатавшиеся в памяти и перенесенные на подиум средствами итальянского стиля и чисто европейского искусства высокой моды»85. В основе этой интерпретации – характерные для Европы способы выражения идентичности, противопоставленные образу «гейши», а за «Японией» стоят главным образом воспоминания или мечты, вдохновляющие западного дизайнера. Искусство высокой моды — типично европейский феномен, и разве могло быть иначе? Стиль – однозначно «итальянский». На постколониальном Востоке продолжается колонизация через образы и язык. Но «аутентичны» ли эти образы? Или же они некая проекция в восточном духе, причем в обоих значениях слова «проекция»: как приписывание кому-то другому чувств, которые человек отвергает или не хочет признавать за собой, а потому видит их в других людях и предметах, и как проецирование изображений, например фильма на экране?
В связи с этой же коллекцией Армани отметил: «Когда вдохновляешься Японией, возникает риск создания одежды, похожей на костюмы, но я стараюсь дистанцироваться от фольклора и по-прежнему верен европейским моделям»86. За этими словами скрывается устоявшееся представление, согласно которому Европа как средоточие моды (и современности) противостоит Японии (и Востоку), где преобладает традиционная одежда, типичная для культуры, понимаемой как «фольклор», не меняющейся веками и безразличной к веяниям современности. Эти стереотипы свидетельствуют о том же противоречии, на которое Аппадураи указывает в связи с понятием «культура»87, относящимся к тому, что по умолчанию всегда считается неизменным, а на деле непрестанно меняется. Вспоминается завораживающий фильм Дэвида Кроненберга «М. Баттерфляй» (M. Butterfly, 1993), в котором французский дипломат, находясь в Китае, увлекается местной оперной певицей и пребывает в плену у своего стереотипного представления об образе «восточной женщины», не будучи в состоянии осознать, что его возлюбленная – в действительности мужчина88. Очевидно, что в основе этих представлений режиссера – образ Баттерфляй из оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй».