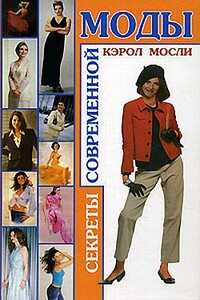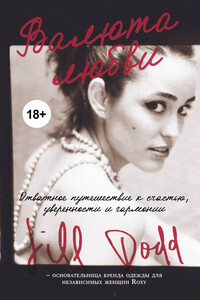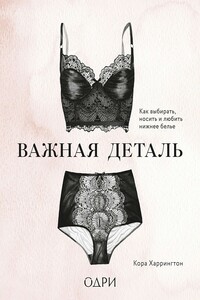Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации | страница 30
Даже если перед нами изначально деформированная, испорченная одежда, эта деформация – часть целостного образа при ее ничем не запятнанном, идеальном происхождении, в противном случае эстетика изношенности во многом утратила бы свое значение и действенность. Подобный вымысел, насаждаемый вокруг одежды или внутренне присущий ей самой, весьма выразителен. Практика создания одежды, внешне напоминающей ношеную, отчетливо способствовала глубинному эффекту отсутствия-присутствия, сопряженному с одеждой: кто-то уже побывал тут. Но, в отличие от подержанной одежды, здесь мы имеем дело с изначально мифическим персонажем, с гипотетическим и воображаемым присутствием. Это отсутствие-присутствие – с самого начала призрак; сама ткань пропитана призрачностью. Нам буквально предлагается одеться в обноски, облачиться в воспоминания. Эти воспоминания могут оказаться текучими и переменчивыми, обнаруживая внутреннюю природу истории и памяти. Или, если сказать иначе, конец моды наступает еще до того, как одежду начинают носить, – и владелец возвращает ее миру. В результате субъективность того, кто носит эту вещь, вытесняется фантомом, его идентичность переносится в пространство памяти, к которой настойчиво взывает одежда. Подобно «тряпичнику» у Вальтера Беньямина и Шарля Бодлера, аллегорической фигуре, которая находит нечто ценное среди обломков и олицетворяет собой идеологию потребления, модели Маржела метафорически изображают однодневную модернистскую культуру и мимолетность времени. Поэт и философ Джакомо Леопарди размышлял о власти моды и ее отношениях со смертью, в «Разговоре Моды и Смерти» (1824) аллегорически изобразив их сестрами. «Я говорю, что у нас одна природа и один обычай – непрестанно обновлять мир», – говорит Мода Смерти, на что та отвечает ей: «Коли так, я тебе верю, что ты моя сестра, – если хочешь, я без всякой выписки из церковной книги так же твердо в этом уверена, как в том, что все умрут»