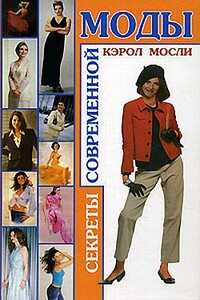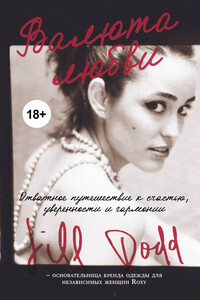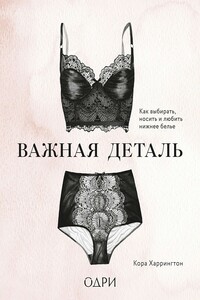Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации | страница 24
2
Время и память
АДАМ ГЕЧИ, ВИКИ КАРАМИНАС
Сложности с родословной моды возникали всегда, со времен появления одежды как таковой – с того момента, когда она из средства прикрыть тело превратилась в костюм. Это языковое по своей сущности изменение, аналогичное произошедшему в незапамятные времена переходу от речи к языку или от сырой пищи – к приготовленной. Одежда занимает особое место в языковом сознании с момента, когда она начинает существовать в своем привычном качестве – после грехопадения и изгнания из рая, которые связывают ее со стыдом и нуждой. Одежда одновременно и скрывает, и восполняет то «единственное», чем мы «подлинно» обладаем. Поэтому с самого начала мода и одежда сопряжены с концом: концом определенного состояния, модуса бытия и сознания, который и обусловил потребность в одежде. Мода сопряжена с похотью, стыдом и чувством опасности. Как утверждает Гегель в «Лекциях по эстетике», «человека побуждает покрывать себя одеждой и чувство стыдливости (Schamhaftigkeit)». Таким образом, перед нами «начало гнева против того, что не должно быть»26. Так как полностью удовлетворить его невозможно, мода представляет собой бесконечную смену фетишей.
Взаимоотношения моды и призрачных сущностей можно проанализировать и на другом примере. Оригинальное изделие высокой моды всегда сначала имеет один-два дубликата – оно копируется и воспроизводится, прежде чем стать чьей-то личной собственностью. Это означает, что ее обладатель, в сущности, является фантомом или призраком (для чего во французском есть глагол revenir – возвращаться, в том числе повторно). Рассматривая современную полемику, связанную с так называемым концом моды, мы можем сделать вывод, что любое предположение о конце моды приводит не к непреодолимой пропасти, а к новому видению самой онтологии моды. Ведь, как часто говорят о моде, она проходит, только успев появиться. Но, кроме того, существуют элементы, предваряющие ее появление (замысел, модель, изображение), а это значит, что, когда мода только появляется, она уже призрачна, поскольку призрачна заключенная в ней фантазия, активный и материальный компонент моды, формирующий способ ее познания и понимания мира. Возможно, «жизнь» моды, то есть период, предшествующий ее предполагаемой смерти, – это масштабная фантазия моды, продолжавшаяся до тех пор, пока мода не задумалась над своей внутренней природой и подлинностью, жизнь, которую необходимо было прожить, чтобы сделать смерть еще более явной. «Смерть» моды встала в один ряд с образом интенсивной жизни после смерти, который ассоциируется с «последним человеком» Ницше или афористичным высказыванием Достоевского: «Если Бога нет, то все дозволено».