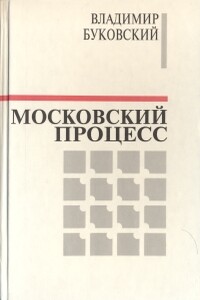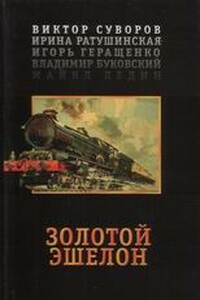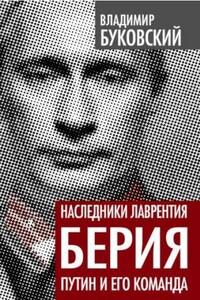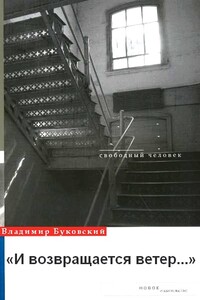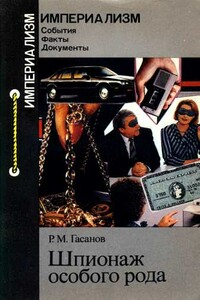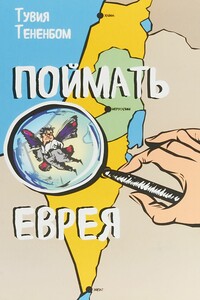Московский процесс (Часть 2) | страница 50
Игра, однако, была тонкой, требовала осторожности, дабы не пробудить жертву, — нечто вроде гипноза, при котором даже назойливо жужжащая муха может сорвать все усилия. Чем-то наподобие такого овода, кружащего надо лбом задремавшей жертвы, мы и оказались: и пришибить нельзя, и оставить опасно. Более того, мы таки заставили их из наступления перейти в оборону, что при наших ничтожных силах было просто чудом. Обороняться же коммунисты никогда не умели. Да и какая может быть оборона в идеологической борьбе? Тот, кто обороняется, уже проиграл.
Сказалось, конечно, и их однобокое, «марксистское» понимание западной демократии, практически не учитывающее такую внеклассовую силу, как общественное мнение или человеческая совесть. Между тем, как ни странно это звучит в наше циничное или прямо бессовестное время, тогда, в 60-е — 70е годы, еще достаточно находилось людей, для которых выражение «права человека» не было пустым звуком. Причем — что, быть может, еще важнее, такие идеалисты находились и «слева», и «справа», и «сверху», и «снизу», совершенно непредсказуемо ни с классовой, ни с политической точки зрения. И, как бы ни были циничны, скажем, лидеры европейских социал-демократов, а тем более коммунистов, но и в их партиях и особенно среди избирателей таких идеалистов набиралось достаточно, чтобы заставить лидеров на них оглядываться.
Словом, наше тогдашнее движение было на редкость разноцветным, никак не укладывающимся в привычные рамки «левых — правых». И если, например, во Франции «правое» правительство Жискар д'Эстена бросилось в объятия Брежнева, то «левая» интеллигенция оказалась нашим ближайшим союзником. Франция была, пожалуй, первой западной страной, где начался процесс осмысления интеллигенцией ее ответственности за преступления коммунизма, начатый под влиянием «Архипелага ГУЛАГ» группой «новых философов». А летом 1977 года, во время визита Брежнева в Париж, это движение достигло своей кульминации, символически отмеченной «рукопожатием века»: на приеме в зале Рекамье, устроенном нам французской интеллигенцией, Жан-Поль Сартр и Раймон Арон впервые за многие десятилетия пожали друг другу руку.
И, наоборот, в Германии или Англии, где правительства были «левыми», нашим союзником была скорее консервативная оппозиция, хотя, конечно, только ею дело не ограничивалось. Всегда находились честные люди любых политических убеждений.
Особенно ярко это проявлялось в Италии: там даже коммунисты считали своим долгом демонстрировать Москве свое неудовольствие. И либералы, и социалисты, а позднее радикалы — все внесли свою лепту в наше дело. Общественное мнение Запада было в этой войне на нашей стороне, хотел того истеблишмент или нет.