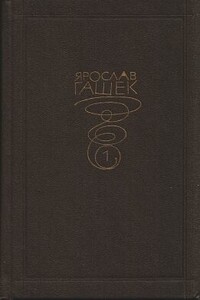Дети утопии | страница 24
Валька, самый, казалось бы, мужественный и волевой из нас, на пересылке первого лаготделения КазУИТЛК, на двадцатой колонии, уступил моральному (без физического насилия) давлению знаменитого опера Баканова, упомянутого Солженицыным в "Архипелаге", и подписку дал. Но тут же в ужасе рассказал об этом нам с Мариком. Мы тогда были некоторое время на одном участке. Очень сложные взаимодействия, вовлекшие в себя множество лиц, привели к тому, что начальник первого лаготделения майор Факторович, ненавидевший Баканова, отобрал у него Валькину подписку и разорвал ее на глазах у Вальки наедине с ним, хорошо его при этом отматерив. Больше опер нашего друга не вызывал. Валька и на следствии однажды сбился, едва не погубив своего лучшего друга Ваню Воронина, вернувшегося с фронта без руки. Мы, в общем-то, говорили на следствии почти все, полагая, что у нас нет тайн от советской власти. Но о сказанном не нами, да еще один на один, мы старались не упоминать. Валька же процитировал опаснейшую реплику Воронина, произнесенную тем наедине с ним. Не знаю почему, но Воронина не посадили. Чего ему это стоило (и стоило ли) в смысле карьеры, тоже не знаю. Но он об этом эпизоде знал и рассказал о нем общему с Валькой их школьному другу. Значит, его вызывали. О Вальке, которого очень любил, Воронин говорил потом жестко. Кажется, они после нашего освобождения не встречались. Мы с Мариком этой Ивановой реплики (ночью у обкомовских окон: "Эх, полоснуть бы по стеклам из автомата!") не слыхали и подтвердить ее не согласились. Думаю, что Вальку, математика, подводила не только нервность, не только испытанный в детстве ужас от ареста (потом расстрела) отца и долгого пребывания матери в сумасшедшем доме, но и чрезмерная последовательность мышления. Если мы советские люди и по убеждениям - коммунисты, если мы признаем историческую целесообразность монокапиталистической диктатуры и полезность сверхдеспотизма "идеального диктатора", то наша воля и этика должны быть подчинены воле Системы и воле диктатора. Но и Валька сразу же опоминался и отступал перед нравственными мучениями, перед тем же "но"... Под грузом своего сообщения о Воронине и уступки Баканову он оказался на грани самоубийства. Эти две сдачи угнетали его всю жизнь и, думаю, укоротили ее. Он с болью говорил о них со мной в Харькове во время нашей единственной послелагерной встречи в 1965 году. Мир его душе (его уже нет).
Бог ли, случай ли уберегли нас от испытаний более жестоких, чем пятилетний срок. А может быть, нам удалось сравнительно быстро очнуться, потому что мы были участливы и сострадательны?