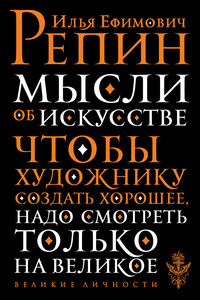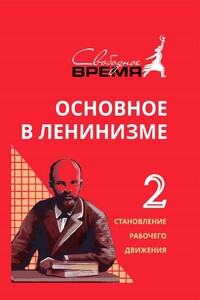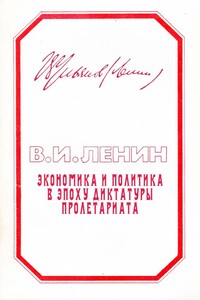Империализм как высшая стадия капитализма | страница 28
Автор делит крупные русские банки на две основные группы: а) работающие при «системе участий» и б) «независимые», произвольно понимая, однако, под «независимостью» независимость от заграничных банков. Первую группу автор делит на три подгруппы: 1) немецкое участие, 2) английское и 3) французское, имея в виду «участие» и господство крупнейших заграничных банков соответствующей национальности. Капиталы банков автор делит на «продуктивно» помещаемые (в торговлю и промышленность) и «спекулятивно» помещаемые (в биржевые и финансовые операции), полагая, со свойственной ему мелкобуржуазно-реформистской точки зрения, будто можно при сохранении капитализма отделить первый вид помещения от второго и устранить второй вид.
Данные автора следующие:
По этим данным, из почти 4 миллиардов рублей, составляющих «работающий» капитал крупных банков, свыше ¾, более 3 миллиардов, приходится на долю банков, которые представляют из себя, в сущности, «общества-дочери» заграничных банков, в первую голову парижских (знаменитое банковое трио: «Парижский союз»; «Парижский и Нидерландский»; «Генеральное общество») и берлинских (особенно «Немецкий» и «Учетное общество»). Два крупнейших русских банка, «Русский» («Русский банк для внешней торговли») и «Международный» («СПб. Международный торговый банк») повысили свои капиталы с 1906 по 1912 год с 44 до 98 млн руб., а резервы – с 15 до 39 млн, «работая на ¾ немецкими капиталами»; первый банк принадлежит к «концерну» берлинского «Немецкого банка», второй – берлинского «Учетного общества».
Добрый Агад глубоко возмущается тем, что берлинские банки имеют в своих руках большинство акций и что поэтому русские акционеры бессильны. И разумеется, страна, вывозящая капитал, снимает сливки, например: берлинский «Немецкий банк», вводя в Берлине акции «Сибирского торгового банка», продержал их год у себя в портфеле, а затем продал по курсу 193 за 100, т. е. почти вдвое, «заработав» около 6 млн рублей барыша, который Гильфердинг назвал «учредительским барышом».
Всю «мощь» петербургских крупнейших банков автор определяет в 8235 миллионов рублей, почти 8¼ миллиарда, причем «участие», а вернее господство, заграничных банков он распределяет так: французские банки – 55 %; английские – 10 %; немецкие – 35 %. Из этой суммы, 8235 миллионов, функционирующего капитала – 3687 миллионов, т. е. свыше 40 %, приходится, по расчету автора, на синдикаты: «Продуголь», «Продамет», синдикаты в нефтяной, металлургической и цементной промышленности. Следовательно, слияние банковского и промышленного капитала, в связи с образованием капиталистических монополий, сделало и в России громадные шаги вперед.