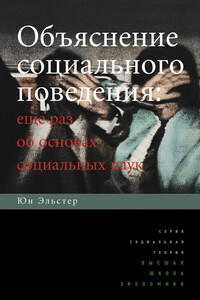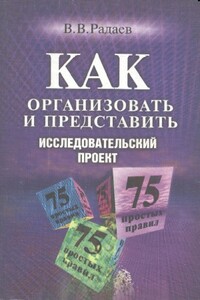Смотрим кино, понимаем жизнь: 19 социологических очерков | страница 38
Итак, на провоцирующие вызовы со стороны родителей молодежь попросту не отвечает. Она не перечит, а уходит от ответа, проявляя неспособность и нежелание что-либо обсуждать. При этом молодежь не скрывает какой-то альтернативной жизненной программы, с которой так хотят познакомиться их родители. Никакой программы просто нет («мы перебесимся и будем такими же, как вы»).
Здесь мне кажется важным уточнить традиционное понимание конфликта поколений. Дело в том, что перед нами на экране уже не конфликт, а настоящий разрыв между поколениями – здесь почти не видно жестоких очных схваток и попыток разрешить непримиримые противоречия, просто поколения перестали слышать друг друга. В отличие от тургеневских отцов и детей, они не в состоянии даже подойти к выяснению отношений. Эффективного выхода не находится, ибо отсутствует нормальная содержательная коммуникация. И сам конфликт тоже зачастую не проявляется, ибо поколения давно живут в ортогональных плоскостях. Отцы искренне не понимают, чего хотят их сыновья, а сыновья столь же искренне не понимают, что, собственно, старшим не ясно.
Дети уходят
Последовавшие вскоре после выхода фильма перестроечные события с демократизацией и гласностью во многом стали делом расколотого старшего, политически ангажированного поколения. Молодые люди, подобные Ивану, во многом остались вовне. Хотя впоследствии многие из них охотно воспользовались плодами реформ. Но еще до начала перестройки мы видим серьезный межпоколенческий раскол и понимаем, что его уже не преодолеть. И такие поколенческие расколы могут оказаться важнее смены политических режимов, хотя проявляются они не сразу и до поры остаются менее заметными[20].
Если же возвращаться к поколению нашего главного героя, то это поколение позднее назовут «потерянным». Еще одно популярное клише – «лишние люди», разочарованные, не находящие себе применение, несущие несчастье себе и другим. Именно к таким людям, как известно, относили Григория Печорина – главного персонажа классического романа «Герой нашего времени», написанного М.Ю. Лермонтовым еще в 1838–1840 гг.
Мы можем также назвать это поколение неприкаянным, ибо оно болтается, не зная, куда себя приложить. Предлагаемые официальной советской культурой цели и ценности к 1980-м годам сильно обветшали и расползались, подобно основательно прогнившей ткани. Не то чтобы их отвергали с гневом и яростью, скорее, просто уже не воспринимали их всерьез. Они перестали работать, а силы партийного и административного принуждения ослабли, становились все менее действенными. Других же целей и ценностных ориентиров пока не возникло. Отсюда вся неприкаянность нашего героя, выпадение из «нормальной» жизни, межеумочное состояние по русской пословице «ни Богу свечка, ни черту кочерга». И трудно его в этом винить, ибо он лишь порождение изрядно перезревшего к той поре социалистического общества.