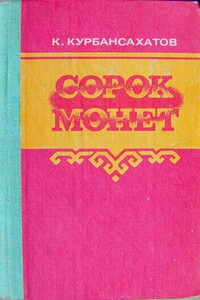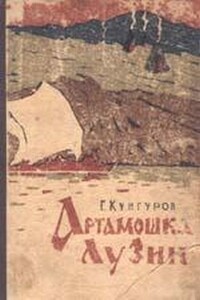Нэцах | страница 103
Гордеева на старости лет стала еще невыносимее и бескомпромисснее. Она нежно любила только «свою кровь» — их покойного отца, Петю, и Нилку. А вот своих дочерей недолюбливала. Хотя тетя Рита тоже могла бы приезжать хоть изредка к матери.
Больше всего Вовку мучал запах — разложения, тошнотворной тяжелой стариковской затхлости, кислятины. И это было не просто замершее в нафталине время. У баб Лёли с порога пахло смертью. А точнее, ее присутствием. Похоже, что она пришла за Гордеевой в эту комнату еще пару лет назад и почему-то решила остаться. Смерть, как стариковская трясущаяся собачонка, тявкала и вертелась под ногами, а когда Вовка уходил — с жадностью урча и чавкая, догладывала остатки жизненной силы и скальпельно-острого ума Гордеевой. На самом деле он боялся признаться, что панически боится заходить в этот дом, в этот запах, который моментально напрыгивал на него и впитывался в волосы, рукава, входил внутрь при вдохе. Вовка инстинктивно старался там реже дышать, а потом, выйдя, долго отряхивался и сплевывал на дворовые плиты. Это было страшнее маминого туберкулеза.
— Не ссы, внучок, — пару раз внезапно сказала ему бабка, — это не заразно.
Месяц назад он нашел спасение — гордеевские папиросы. Он таскал по паре штук при каждом визите, а потом прятался с пацанами в сквере и, задыхаясь, курил, чтобы перебить ее страшный запах.
Раз в неделю Женя и Рита делали попытки помыть Гордееву, которая хоть и могла передвигаться, но на гигиену забила окончательно. Помыть получалось плохо, ну удавалось хотя бы обтереть влажной тряпочкой.
— Я не могу ее такой видеть, — шепнула Ритка и аккуратно вытерла глаза, чтобы не размазать подводку, — не могу.
— И что? — закурила Женька. — Я ее всю жизнь видеть не могу, и что ж теперь — пусть подыхает в грязи?
— Давай я тебе денег дам, наймешь кого-нибудь из больницы.
— Себе оставь. Или папирос ей купи. Она любит.
— Возьми сейчас же, ты ж ей готовишь постоянно. А папиросы я ей принесла. Неужели все скурила?
Женька молча сунула деньги в карман. Ритка курила и плакала.
— Ты правда на меня не сердишься?
— А чего мне тебя судить? Я б тоже — могла бы — сбежала б от этого, — она махнула рукой в сторону галереи. — Только у меня должок перед ней. С войны. Да и с рождения тоже, если мама не врала.
Это зависшее ожидание конца тянулось уже полгода. А мадам Гордеева со своим норовом как будто поспорила со смертью и, несмотря на свои восемьдесят семь, пока выигрывала. Понемногу, по дню.