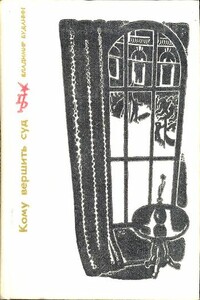Алесь Адамович. Пробивающий сердца | страница 6
В те дни Карякин написал письмо Д. А. Гранину. Сам он бредил тогда дневником Юры Рябинкина (из «Блокадной книги»), читал его со своими учениками в школе, заставлял читать всех своих друзей и, конечно, меня. Читать было страшно. А письмо (цитирую частично по машинописной копии) было такое:
Дорогой Даниил Александрович!
Вы человек упорный, и я тоже: поверьте, пожалуйста, что нужна вся «Блокадная книга». Прежде всего, для подростков нужен «Дневник Юры Рябинкина». Пятнадцать лет я веду уроки в школе — ничто, никто (даже Пушкин! даже Достоевский!) не пробивает их так, как этот дневник, ничто не вырезает в их душах такие точные координаты, ориентиры. Это же прочитают — навсегда! — миллионы, и оставит это такой след, какой и не снился милой «Алисе в стране чудес». Говорить о художественности»такой литературы, «сверхлитературы» очень трудно — по такой же простой причине, по какой трудно говорить о художественности набата, возвещающего о смертельной опасности: не в концерт же приглашены. Художественность здесь подчинена работающей словом совести писателя, который пробуждает совесть людей [3].
Лев Толстой к концу своей творческой жизни искал новый смысл ее — вне литературы. Его титаническая борьба с государством, официальной церковью, с несовершенным мироустройством, его проповедь добра и неприятия насилия не могли найти художественной формы в литературе, выходили за ее рамки.
Вот и Адамович рвался рассказать правду людскую так, будто, написав, умрет и больше уже ничего не сможет сказать: «Всякую вещь свою писать так, словно она у тебя последняя и больше не представится случая "сказать всё" — это великий завет великой литературы».
И завет его подхватила и выполнила уже в наши дни его ученица, мужественная женщина Белоруссии и талантливый писатель Светлана Алексиевич, получившая Нобелевскую премию «за многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время». Как рад был бы Алесь, доживи он до этого!
Алесь рассказывал нам о ней много и всегда с похвалой: талантливая девчонка, а как чувствует неправоту жизни! Она уже многого достигла в журналистике и начала писать. И вот Алесь подарил ей магнитофон и предложил записывать «свидетелей жизни» и на этом материале делать книги. Название ее первой книги, получившей признание и миллионные тиражи, — «У войны не женское лицо», — придумал он.
А в нашем переделкинском доме Светлана появилась в начале девяностых. Она поразила меня удивительной скромностью, какой-то тихой сосредоточенностью, вниманием к окружающим и удивительной, будто немного виноватой улыбкой. Но в этой тихой молодой женщине чувствовались сила и твердость. А еще было видно, что она, как и Алесь,— человек, несомненно, одержимый. Чем? Как пробить, пронзить, прожечь сердца людские беспощадной памятью о войнах минувших, беспощадной правдой о войне грозящей, о катастрофах страны и драмах человеческих, чтобы взорвать наше воображение и побудить к поступку? Ее книги страшно читать. Страницу — и то страшно. А работать, писать столько лег? А разыскать людей, выслушать их, записывать за ними? Собрать эту мозаику из кровоточащих кусков? Искренность, мужество, совестливость, верность правде — вот что сделало из нее большого писателя.