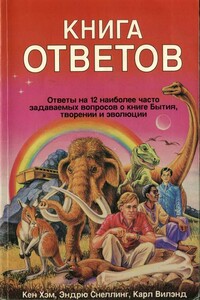Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга первая: Критический обзор важнейшей литературы вопроса | страница 218
Избегали не только мiра во всяком смысле этого слова, избегали также мiрской церкви. Ее почву считали опасной и не сомневались, что все сакраментальные блага можно заменить аскетизмом и постоянным созерцанием Бога, — религиозным экстазом.
Как же к монашескому движению относилась сама мiрская церковь? [1405]
Мы наблюдаем поразительнейшее историческое явление, что церковь в то время, когда она особенно изображала (представляла) собой правовой и сакраментальный институт, начертала христианский идеал, который мог осуществляться не в ней, а только рядом с ней. Чем более она связывалась с мiром, тем выше, тем вышечеловечнее начертывала (schraubte) она свой идеал. Она сама учила, что высочайшая цель Евангелия есть созерцание Бога, и она сама не знала никакого более верного пути к этому созерцанию, как бегство от мiра. [1406]
Мотивов к монашеской жизни было много, особенно со времени учреждения христианской государственной церкви. Уже в середине IV-го столетия в пустыне было пестрое общество. Одни стремились за тем, чтобы действительно отдаться покаянию и сделаться святыми, другие, — чтобы прослыть за таковых. Одни бежали общества и его пороков, — другие общественного призвания и труда. Одни были просты сердцем и непреклонны волей, другие были больны от житейского шума. Одни хотели обогатиться познанием и истинной радостью, другие здесь же хотели сделаться бедными, и духовно и телесно. [1407]
Даже между истинными монахами мы замечаем уже в четвертом столетии важнейшее различие. Основные положения: исключительная жизнь в Боге, бедность и целомудрие, к которым у монастырских иноков присоединялось еще послушание, требовались одинаково от всех. Но какой различный вид приняли они в действительности! Так, одни из них, благодаря тому, что избежали ложной культуры, открыли в пустыне то, чего они ранее не знали — природу. С ней они жили, ее красотой восхищались и ее прославляли. Мы имеем от пустынников четвертого столетия такие изображения природы, которые редко производила древность. Как радостные дети, хотели они жить со своим Богом в Его саду. Но другие понимали аскетизм иначе. По их убеждению, необходимо избегать не только культуры, но также и природы, — не только общественных порядков, но также и человека. Все, что́ может сделаться поводом ко греху (а что не может сделаться таким поводом?), следует отвергнуть, — всякую радость, всякое знание, всякое человеческое благородство (Menschenadel).