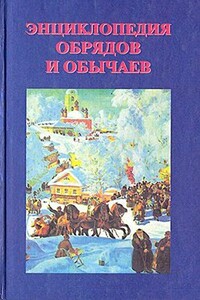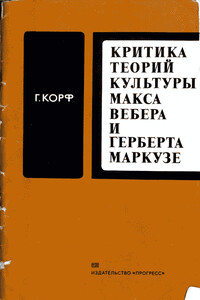Не-места. Введение в антропологию гипермодерна | страница 20
Вместе с тем Фрейд прекрасно понимает, что «человек отчужденный», о котором он пишет, отчужденный от различных институций (например, от религии), является одновременно воплощением человечества или «любым человеком» – начиная с самого Фрейда и любого, кто в состоянии наблюдать в себе механизмы и эффекты отчуждения. Это неизбежное отчуждение – то самое, о котором говорит Леви-Стросс во «Введении в труды Марселя Мосса», утверждая, что мы называем «здравомыслящим» именно отчужденного субъекта, согласного жить в мире, определяемом отношениями с другими.
Известно, что Фрейд практиковал самоанализ. Сегодня перед антропологами встает вопрос, как интегрировать в их анализ субъективность изучаемых ими людей, то есть в конечном счете, учитывая изменившийся статус индивида в наших обществах, заново определить критерии репрезентативности. Мы не можем исключать, что антрополог, идя по стопам Фрейда, воспринимает себя как «туземца» своей собственной культуры, по сути привилегированного информанта, и рискует, предпринимая попытки само-этноанализа.
За пределами того особого внимания, которое сегодня придается индивидуальным референциям, или, если угодно, индивидуализации референций, нужно уделять внимание и фактам единичности: единичности объектов, уникальности групп или принадлежностей, всевозможным индивидуальностям, составляющим парадоксальный противовес процедурам включения в систему отношений, ускорения и делокализации, быстро сводящимся к «гомогенизации культуры» или «всемирной культуре» (и описываемым именно так).
Вопрос об условиях, при которых осуществима антропология современности, должен быть обращен не на метод, а на объект. Это не означает, что вопросы метода не имеют определяющей важности или что они могут быть полностью отделены от вопросов об объекте. Однако вопрос об объекте является необходимой предпосылкой. Можно даже сказать, что он представляет вдвойне необходимое условие, так как, прежде чем интересоваться новыми социальными формами, новыми формами чувствительности или новыми институтами, могущими предстать в качестве характерных для текущего времени, необходимо обратить внимание на изменения, затронувшие фундаментальные категории, которыми люди мыслят о своей идентичности и о своих взаимоотношениях. Три аспекта феномена избыточности, которыми мы попытались охарактеризовать ситуацию гипермодерна (избыток событий, избыток пространства и индивидуализация референций), позволяют постичь гипермодерн без игнорирования его сложностей и противоречий, но и без превращения его в горизонт потерянной современности, за который невозможно заглянуть, и потому остается лишь отыскивать ее следы, описывать ее реликты и систематизировать архивы. XXI век будет веком антропологии – не только потому, что рассматриваемые нами три аспекта избыточности составляют не что иное, как современную форму вечного для антропологии «сырья», но и потому, что в ситуациях гипермодерна (как и в тех ситуациях, которые исследовали антропологи под названием «аккультурации») компоненты накапливаются, не разрушая друг друга. Поэтому мы заранее можем уверить тех, кого влечет к традиционным объектам антропологии (от альянса до религии, от обмена до власти, от владения до колдовства): они далеки от исчезновения как в Африке, так и в Европе. Однако они вновь обретут значение (трансформировав прежние смыслы) наряду со всем остальным в новом, ином мире, причины и причуды которого предстоит понять как нынешним антропологам, так и их коллегам в ближайшем будущем.