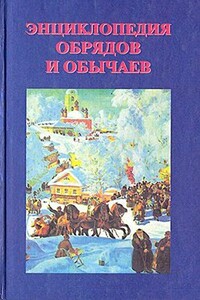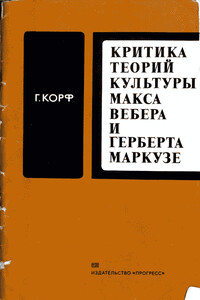Не-места. Введение в антропологию гипермодерна | страница 18
Можно было бы подумать, что смещение пространственных параметров (избыточность пространства) ставит перед этнологом сложности того же порядка, что и у историков, сталкивающихся с избыточностью событий. Речь идет о сложностях, являющихся при этом особенно стимулирующими для антропологических исследований. Изменения в масштабе, изменения параметров: как и в XIX веке, нам предстоит изучать новые культуры и цивилизации.
В этом отношении не так уж важно, что мы в некоторой степени сами являемся заинтересованными в подобных исследованиях, поскольку мы – каждый из нас – далеки от полного понимания всех аспектов этих новых объектов исследований. Напротив, экзотические культуры некогда казались западным наблюдателям столь отличными лишь постольку, поскольку те пытались рассмотреть эти культуры через этноцентричную оптику своих собственных обычаев. Если уж опыт взаимодействия с экзотическими культурами научил нас «децентрировать» свой взгляд, то нам следует извлечь выгоду из этого опыта. Мир гипермодерна не совпадает с тем, в котором мы, по нашему мнению, живем: на самом деле мы живем в мире, смотреть на который мы еще не научились. Нам необходимо заново научиться осмысливать пространство.
Третий аспект феномена избыточности, относительно которого определяется ситуация гипермодерна, известен нам. Это явление эго, индивида, возвращающееся в антропологическую рефлексию: за неимением новых областей в мире, лишенном территорий, и неимением теоретического порыва в мире, лишенном больших нарративов, некоторые этнологи после попытки интерпретации культур (культур локализованных, культур «по Моссу») в качестве текстов ограничили область своих интересов исключительно текстами этнографических описаний – текстами, естественно отражающими личность своих авторов: если верить Джеймсу Клиффорду, нуэры расскажут нам об Эванс-Причарде больше, нежели Эванс-Причард – о нуэрах[15]. Не подвергая сомнению дух герменевтических исследований, согласно которому толкователи сами «конструируют себя» через исследование других, предположим, что применительно к этнологии и этнологической литературе герменевтика с трудом избегает риска тривиальности. Неясно на самом деле, в состоянии ли деконструктивистская критика, примененная к корпусу этнографических текстов, раскрыть нам глаза на что-то небанальное и неочевидное (скажем, на тот факт, что Эванс-Причард жил в колониальную эпоху). Напротив, вполне возможно, что этнология сходит с нужного курса, подменяя полевые исследования исследованиями личностей полевых исследователей.