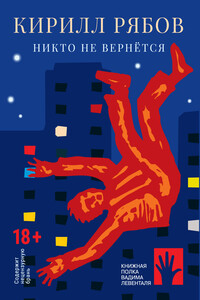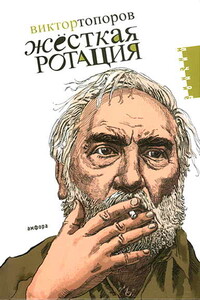Двойное дно | страница 97
В годы моего студенчества Реизов, тогда, наверное, шестидесятилетний крошечный сухонький старичок, был еще изрядным жуиром. Любовницы его назывались (потому что становились) аспирантками, другого пути в аспирантуру у наших девочек просто не было. Держал Реизов гигантского сенбернара и распускал о себе молву, будто является отменным наездником. «Так вы, наверное, на этом сенбернаре и ездите», — делано удивилась долговязая кандидатка в аспирантки, вызванная на домашнее «собеседование». В университете ее, правда, оставили (здесь же служил ее отец), но в аспирантуру так и не взяли.
Силен, по-видимому, был профессор Ямпольский — великий крохобор, прививший педантизм, чаще именуемый академической выучкой, не одному поколению учеников. Но сам он писал, да и говорил ужасно; саркастическое красноречие просыпалось, лишь когда он обнаруживал какую-нибудь «блоху» в чужом тексте.
Замечательно читал спецкурс по Достоевскому профессор Бялый. К нему сбегались. Помню одну его методическую новацию: подробно проанализировав основные романы (включая полузапретных тогда «Бесов»), он не стал читать «Братьев Карамазовых». Мол, если вы внимательно прослушали мой курс, то разберетесь сами: ни одного нового мотива в романе не появляется. Примерно тогда же я прочитал (по-немецки) рассказ Станислава Лема: суперкомпьютер будущего, запрограммированный на перевод полного собрания сочинений Достоевского с русского на английский, вдруг начинает творить самостоятельно и выдает на-гора (перед «Братьями Карамазовыми») порнографический роман «Девочка». Порнографический, но безошибочно достоевский. А мать, смеясь, пересказала мне беседу с молодым адвокатом, посмотревшим одноименную кинотрилогию. «Зоя Николаевна. Посмотрите сначала две серии, а уж потом идите на третью! Ни за что не догадаетесь, кто старика убил!»
В то время я уже понял, что, чем бы мне ни пришлось заниматься, я на любом поприще останусь дилетантом — уж больно мне претил профессионализм любого рода. Я не вел конспектов, не читал обязательную литературу, я вставлял в курсовые работы фиктивные цитаты собственного сочинения, любой экзамен или зачет я воспринимал не сам по себе, но как повод и способ заморочить голову преподавателю, выиграв тем самым поединок у профессионала. Вместе с тем я и учился как-то по касательной — у преподавателя аналитического чтения (по-немецки) профессора Павлова — не столько немецкому, сколько диалектике мышления, у преподавателя стилистики русского языка Тарковского (имени не помню, а отчество у него было редчайшее — Беатакиевич — и правильное освоение студентами этого отчества волновало преподавателя куда больше, нежели вопросы стилистики) — тому, чем как раз в те же годы занималась «франкфуртская школа» социологии, и так далее.