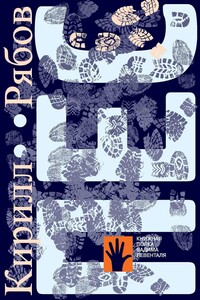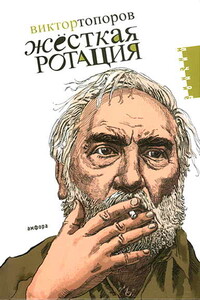Двойное дно | страница 52
Даже не то что струсил — меня как бы заранее охолонил внутренний голос, насмешливо произнесший: «Топоров спекулирует на политической теме». То есть если ты поэт, то пиши про птичек, а если пишешь про Чехословакию, то ты как бы не совсем поэт. Но единожды солгавший, кто тебе поверит, — а я не уверен, что в тот раз самому себе все-таки не солгал. Так или иначе, этот опыт стал для меня основополагающим: отныне печатать свои стихи без стихов о Чехословакии представлялось мне невозможным, а напечатать стихи о Чехословакии было нельзя по определению, следовательно, я навсегда оставил мысль о публикации собственных стихов.
Вот первое и, пожалуй, лучшее из этих стихотворений:
Литература и политика и впрямь с некоторого времени — и вопреки собственной воле — спутались для меня в один клубок. В порядке оправдания отмечу, что в какой-то мере это на протяжении добрых или недобрых двухсот лет происходило со всей страной. «Серьезно» писать я начал в шестнадцать-семнадцать — слезливоподражательную любовную лирику, естественно. Резко контрастировавшую с моим бытовым поведением и, разумеется, втайне от кого бы то ни было. «Как прыщавой курсистке длинноволосый урод говорит о мирах, половой истекая истомою». Впрочем, и крымский роман Мандельштама с Цветаевой вписывается в эту издевательскую есенинскую парадигму.
Недавно я после семнадцатилетнего перерыва принял участие в шахматном турнире и — неожиданно для себя и для окружающих — показал мастерский результат, какого не показывал никогда раньше. И мысленно сравнил этот запоздалый и неуместный опыт с разовым пересыпом, который случился у меня с героиней первых стихов через двадцать семь (!) лет после того, как я проникся к ней юношеской влюбленностью. Самоутверждался я тогда как человек мыслящий вовсе не в стихах — и прорывалось это, причем прорывалось бурно, в школьных сочинениях, каждое из которых становилось предметом едва ли не судебного разбирательства.