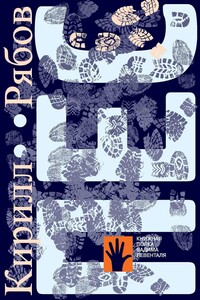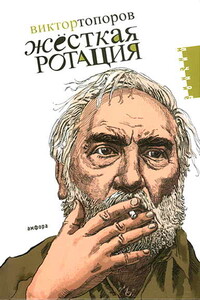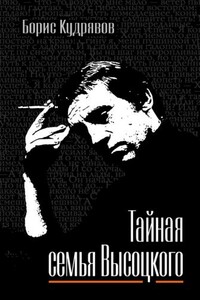Двойное дно | страница 41
Правда, я продолжал играть и заниматься шахматами с прежним упорством, но первоначальное ощущение прорыва и взлета — взлета в неведомое — пропало. Эстетическую любовь к шахматам захлестывали теперь спортивные разочарования; потребность в самоутверждении становилась назойливой и, не находя полного разрешения за доской, перетекала в быт. Я становился весьма неприятным, скорее даже невыносимым человечком.
Мой шахматный однокашник и ближайший друг с тех времен до сегодняшнего дня — я уговорил его перейти в мою школу, и мы стали одноклассниками, потом, в одиннадцатом, когда меня исключали «по политике», он в знак протеста объявил об уходе из школы, меня в итоге не исключили, а он перевелся в вечернюю, — человек ангельской кротости, утверждает, что тогда, в старших классах, я вел себя в полном соответствии со своим нынешним литературным образом, а в жизни я, на его взгляд, стал бесконечно мягче. Но это с ним и с такими, как он, мягче — замечу я от себя. «Портер нахал, Рабинович наглец, а Топоров подлец», — говаривала в минуту душевной смуты моя классная руководительница. Правда, подлецом я все же не был. Линда Антоновна, похоже, просто не знала слова «злодей».
Это был темный период — с четырнадцати до шестнадцати. Литературой я тогда не занимался, шахматами занимался бесплодно, борьбой — полуанекдотически, девочками — полу-платонически (хотя имелся у меня уже и взрослый опыт, но он мне не понравился), курил дома, пил в парадных и в проходных дворах, учился из рук вон плохо, жил инерционно и сумрачно. Ездил еще, помнится, на футбол — как член юношеской сборной города по шахматам, имел право на бесплатное посещение. Мои еврейские одноклассники (а класс в этой рядовой, без всяких престижных уклонов, школе почему-то состоял на три четверти из евреев), помешавшись на преферансе, круглыми сутками расписывали «пулю», я карт не любил и бесконечно (и бессмысленно) блицевал с шахматистами из Дворца пионеров или скитался с друзьями-второгодниками по улице (как раз один из них, Витя Субботин, подвиг меня сначала заняться борьбой, а потом полюбить поэзию).
Однажды на нас с Портером, возвращавшихся с командных соревнований по шахматам (я пристроил его в сборную района на одну из последних досок), напали хулиганы. Портер убежал, а я сунул руку в карман и предупредил, что сейчас пущу в ход кастет. Которого у меня, правда, не было, но именно кастетом мне в ответ и сломали нос. На следующий вечер мне надо было идти на вечеринку — все к тому же Портеру, — и я имел кое-какие виды на девочку по имени Топсик. Всю ночь я приводил в порядок сломанный нос мокрым полотенцем и в результате свернул его набок. У моего еврея-отца был римский профиль, мой нос оказался хуже, но изначально был все же прям, еврейство я вкрутил в него в ту ночь полотенцем.