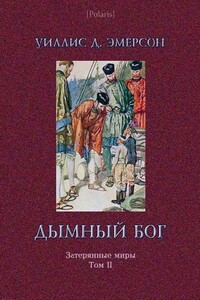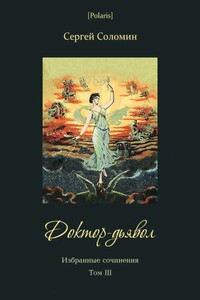Ошибка биолога | страница 31
Орлы, отвыкнув летать, долго бегали с криком, пробуя крылья и, наконец, поднялись.
— Орлиный взлет! — восторгался Марк.
Сумасшедшие взобрались на крышу каменного павильона и любовались картиной разрушения.
— Смерть и ужас! Смерть и ужас! Звери отомстили! Ха-ха!
С улицы доносились грохот и звонки подъехавшей пожарной команды. Сад наполнился полицейскими и солдатами. Захлопали сухие выстрелы винтовок. Люди были спасены.
Но, покрывая треск горящего здания, крики, стоны, рев убиваемых животных, в бездну ужаса врывался сверху торжествующий хохот безумия.
Птицы
Веретьеву ни в чем не везло.
После смерти матери, зарабатывавшей переводами и дававшей ему комнату и стол, он остался на собственных руках.
Делать, в сущности, ничего не умел. Бегал по урокам, но при громадном предложении в столице труд этот окончательно обесценен и даже самый дешевый урок найти часто невозможно.
Пришлось бросить мысль о государственном экзамене. Страшным призраком встала нужда. Тут уж не до рассуждений, где и как достать средства на жизнь, лишь бы не умереть на улице голодной смертью, лишь бы не дойти до полного падения, не забосячить.
Кое-какие связи его покойной матери с редакциями газет дали возможность пристроиться репортером.
Но выдвинуться он не сумел. Заработок был ничтожный, ночевал то там, то здесь у товарищей-репортеров, приучился сидеть часами в ресторанах и портерных и, когда близился час их закрытия, выдумывал, где бы провести ночь. Часто спал в редакции газеты на диване, подложив кипу старой бумаги под голову.
Каждый день, как бы ни был занят Веретьев беготней по городу в поисках известий для «хроники», он непременно попадал в маленький, грязноватый ресторан, куда заходили и другие репортеры, а при удачном заработке собирались компанией и кутили.
Даже когда в кармане было всего несколько копеек и приходилось забыть об обеде, Веретьев садился за столик и тянул потихоньку кружку пива, просматривая газеты и журналы и, ожидая, не подойдет ли кто из знакомых.
В трезвые минуты одиночества Веретьеву становилось бесконечно жаль себя и он мысленно спрашивал кого-то: за что?
До смерти матери он жил иначе, никогда не голодал, не занашивал белья, был всегда такой чистенький, любующийся собственным здоровым телом. Выработалось стремление ко всему изящному, красивому, всякая грязь внушала омерзение.
А теперь донашивает последнее платье, сапог дырявый, белье не менял больше месяца, все тело зудит и только водка, одурманивая голову, заставляет забыть ужас жизни.