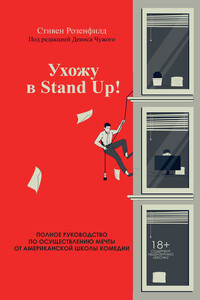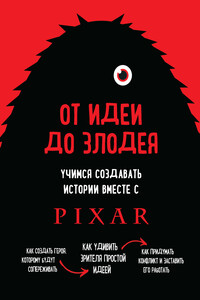Как разбудить в себе Шекспира | страница 23
«До появления Гоголя и Пушкина», – говорит Набоков, – «русская литература была подслеповатой. Формы, которые она замечала, были лишь очертаниями, подсказанными рассудком; цвета как такового она не видела <…>. Небо было голубым, заря алой, листва зеленой, глаза красавицы черными, тучи серыми и т. д.» Потом пришли писатели и увидели, что небо на восходе солнца может быть бледно-зеленым, снег в безоблачный день густо-синим, река лиловой и желтой, если отражает закатное небо, а на листьях может качаться узор света и тени.
Почему так важно замечать детали? Потому что только такое усилие приближает нас к жизни и удаляет от иллюзии. Самое мертвое, что может быть в искусстве, – это когда мы подменяем описание жизни нашими теоретическими представлениями о ней. Представления вторичны, мы получили их из других книжек, они уже пережеваны и переварены, они шаблонны. Тогда как живая жизнь противоречива, она наполнена огромным количеством неописанных никем, а значит, невидимых и незамеченных обывателем красок, звуков, вкусов, ощущений, запахов. Единственный способ действительно увидеть реальность – это снять очки заготовленных представлений. Ваша задача – обнулиться как наблюдателю, увидеть, услышать и почувствовать впервые, как будто вы сегодня родились. Непредвзятость, свежесть восприятия – это путь художника.
Набоков писал: «В чем же суть этих иррациональных норм? Она – в превосходстве детали над обобщением, в превосходстве части, которая живее целого, в превосходстве мелочи, которую человек толпы, влекомой неким общим стремлением к некой общей цели, замечает и приветствует дружеским кивком. <…> Я вспоминаю рисунок, где падающий с крыши высокого здания трубочист успевает заметить ошибку на вывеске и удивляется в своем стремительном полете, отчего никто не удосужился ее исправить. В известном смысле мы все низвергаемся к смерти – с чердака рождения и до плиток погоста – и вместе с бессмертной Алисой в Стране чудес дивимся узорам на проносящейся мимо стене».
Марина Разбежкина рассказывала про одного своего ученика, который в рамках учебы снял короткий фильм о пенсионерке. Он вооружился «знанием жизни», его представления о проблемах пенсионеров были весьма определенны – то есть на нем были те самые очки заготовленных представлений. Он не обнулился, а значит, не заметил, что интервьюированная им женщина – бывшая балерина, и ее судьба прошла мимо него. Он обобщил, не увидев ее уникальность, которая была выражена в деталях: через постановку ступней, положение кистей рук, осанку, манеру держать подбородок. Его фильм остался банальностью.