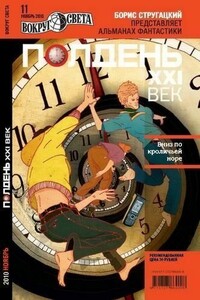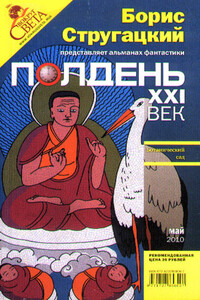Постмодернистские игры вокруг нацизма и коммунизма | страница 5
На первый взгляд «Черное знамя» — это политическое высказывание — ну, о чем бы? — ну, например, о том, что «тоталитаризм — это не хорошо». Именно этому, скажем, посвящено сопровождающее роман послесловие Валентинова. Но на самом деле всякая мысль на эту тему давно банальна, а суть удовольствия, которое здесь предполагается, в карнавальной игре по комбинированию исторически нагруженных знаков.
В «Знамени» несколько таких игр. Первая игра — воображать, как бы выглядели реалии Третьего рейха, если бы их начали реализовывать на российской почве. Партия остается партией, фюрер называется вождем, вместо СС — Народная дружина, вместо гестапо — жандармы (но в черных мундирах), вместо «условных» древних арийцев — столь же условные Чингисовы монголы, вместо «Анненэрбе» — «Наследие», вместо группенфюреров — темники, вместо министерства пропаганды — министерство мировоззрения. Можно играть, ища аналогии персон гитлеровского режима: а кто у нас вместо Гитлера? А кто вместо Геббельса? А вместо Гиммлера?
Еще одна игра: расставлять в новых реалиях людей из реальной истории. Большинство персонажей романа носят фамилии исторических деятелей, причем при новом режиме карьеру — вперемежку — сделали и те, кто в нашей реальности ее делал при советском строе, и те, кто оказался в эмиграции. Роль идеологов «нацистской партии» играют эмигранты-евразийцы, СС возглавляет умерший в эмиграции Хан Хаджиев, а первым президентом «веймарской» республики в 1917 году почему-то избирают Витте, хотя в нашей реальности его и в живых не было.
И еще одна игра — идеологическая: представлять цитаты из трудов евразийцев как лозунги правящей партии.
И детективный (впрочем, не очень лихо закрученный) сюжет, и заканчивающееся самоубийством история «прозрения» главного героя оказываются лишь поводом для панорамного путешествия по карнавалу — карнавалу, где Тухачевский сменяет генерала Корнилова на посту военного министра Вечной империи.
История ХХ века столь ярка, она сформировала столь характерные личности, что из нее легко сделать карнавал, все начать менять местами, переодевать мундиры, использовать и приемы контраста и сходства.
Политическая актуальность создает иллюзию, что этому карнавалу свойственно нечто вроде идейности, хотя торжествует главная идея постмодернизма — все возможно, и все остается тем же.
«Черное знамя» не может дать новой оценки нацизму, поскольку нацизм, «выполненный» из новых фамилий и географических названий, передвинутый из Германии в России, остается все тем же самым, немецким по исходной версии нацизмом и все имеющиеся ему исторические оценки, которые Казаков и не пытается реформировать, остаются все теми же, давно известными и в равной степени применимыми к русскому фашизму как к немецкому нацизму. Казаков мог бы ответить на вопрос, в чем была бы специфика русского фашизма по сравнению с нацизмом, — но автор «Черного знамени», подчиняясь формальной задаче имитировать именно немецкую версию, делает в этом направлении удивительно мало.