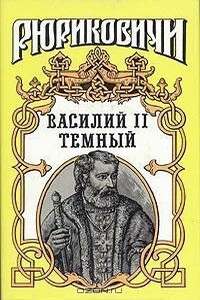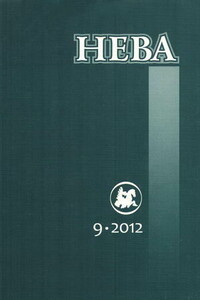Оползень | страница 4
— Хорошо, хорошо, непременно, — Осколов поднялся из-за стола. — Вам на таком плане Колорадо нарисуют, верьте им! Да еще бывшие политические.
У ворот его встретили неясным гомоном, мяли в руках шапки, робели, но отступать не собирались, выкрикивали вразнобой:
— Зубы у детей шатаются!
— В бараках сырость! Ставили прямо на мерзлоту без фундамента.
— …Сил нет!
Как будто он сам этого не знал! Но ведь не он же строил, и что он теперь может переменить!
— Я поставлю вопрос перед акционерами, — неуверенно пообещал он, ненавидя в эту минуту и себя, и толпу.
— Вообще работа невснос! — дерзко бросил в лицо ему молодой парень из первого ряда.
— От цволачь! Невснос ему! — сказал Зотов, стоявший рядом.
— Как твоя фамилия? — спросил Александр Николаевич.
— Моя фамилия Федоров, господин управляющий. Нечего наши фамилии спрашивать. Вы сами ответ давайте!
— Вот народ — брачеха, а? Не крюк, так багор! Одни мошенники.
Зотов просто разрывался из преданности, и было в нем что-то такое же холуйски липкое, как в помощнике.
— Помолчите, Зотов, — оборвал его Александр Николаевич. — Не можете вы без своих грубостей!
Приказчик отошел в толпу, ворча:
— Ругаюсь, вишь! Какие нежные! Нам без ругани нельзя. Может, ругань у нас заместо покурить.
Осколов обвел глазами стоящих впереди, остановил взгляд на старике рядом с Федоровым: видно, родственники. Белые пятна ожогов на лице выдавали, что долго был таежным кабанщиком.
— А ты, старик, что молчишь?
— Погодь, — ответил старик, — скажу. Когда прожгет, скажу. Пока молчу.
Это было плохо. Первый раз в его практике управляющего так плохо. Тревога холодком прошлась от низа живота по всем внутренностям до самого горла.
В толпе нарастала нервность, надрывность. Молодой парень сбивчиво обратился к Осколову:
— Приказчик Зотов — сволочь!
— Ох и сволочь же! — вздохом пронеслось по толпе.
Александр Николаевич обернулся к Зотову.
— Чернота-то, она капризна! — доверительно и смиренно покивал тот из толпы. Некоторые возле него засмеялись. Зотов сложил короткие крепкие ручки на животе, ждал.
— Ноги в могиле висят, — продолжал парень, — а иди в рудник. Сдохнешь — туда и дорога. Ему не жалко. Зверь! Ожидаешь его, замирает кровь в человеке, а потом все дело свершается.
— Какое дело? — Александр Николаевич растерялся.
— В зубы то есть.
Настороженно смотрело на него множество глаз, смотрели не с жалобой — с какой-то враждебной готовностью. К чему? А черт его знает к чему! Он впервые почувствовал физически эту готовную силу. И ему стало жалко себя, что именно сегодня, такой день они выбрали. Он перебегал взглядом по лицам и не мог ни запомнить, ни выделить ни одного: покрасневшие на морозе носы, всклокоченные волосы, рваные овчинные воротники. Вдруг старик заплакал, затрясся, обирая щепотью слезы с заросших щетиной щек: