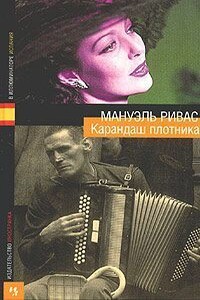Отбой! | страница 8
Парк стоял как зачарованный. Изредка звенели шпоры драгун, ухаживавших за няньками. Разросшийся боярышник глушил кустики японских роз. Фонтан развалился.
У стоявшего особняком пригородного вокзальчика парк переходил в рощу. Березы были исчерканы подписями влюбленных. Среди них встречались иностранные имена.
На одну сторону парка выходили задние стены домов, а дальше, кругом, сколько хватал глаз, раскинулись поля. Шум на железной дороге, тянувшейся куда-то в немецкие города, и крики детей не рождали здесь эха, их словно приглушала необъятная даль. Ветер, воя, носился вдоль улиц и плакал в трубах, вращая флюгера и некрашеные жестяные украшения на беседках.
В середине Подебрадского проспекта, прямо против здания школы, стоял дом, полный лекарственных запахов. Это был давний наследственный аромат, он заставлял прохожих почтительно понижать голос. Весь фасад дома, кроме первого этажа, был расписан фреской, исполненной по заказу хозяина дома, доктора медицины дворянина Отакара Пуркине, оригиналом-художником из паркового ателье. Художник — его звали Эмиль Голарек — работал по эскизам Миколаша Алеша[6]. Окна были обрамлены какими-то орнаментами, похожими на репейник, изображавшими, по-видимому, лечебные травы, а посредине виднелось большое барельефное изображение доктора Есениуса[7].
С неудовольствием вспоминаю я эти аристократические украшения. Дом дворянина Пуркине был прямо против окон нашей чертежной и часто служил нам натурой для эскизов. Учитель рисования Лиер знал каждый завиток орнамента, каждый листик и стебелек. Он сам жил в этом доме. Какой это был милый чудак! На переменах он иногда убегал домой и, спрятавшись за занавеской — его окна были как раз напротив, — наблюдал нас в бинокль, особенно приглядываясь к партам учениц[8]. Учеников он любил как добрый и строгий отец и никогда не ленился заглянуть в котельную — единственное место в училище, где нам удавалось покурить. Застигнутые врасплох удирали от него, прыгая по осыпающимся кучам угля.
Давно нет в живых этого милого старика. Уже не раздает он подзатыльники семиклассникам, которые на две головы выше его ростом, не слышно его подозрительного сморканья при расставании с окончившими училище, не веет застоявшимися запахами кабинетных коллекций и чертежных досок от его старенького сюртука мышиного цвета. Оригинальный этот и милый старик, похожий на сказочного Деда-Всеведа, стал косвенной жертвой войны: он умер от недоедания. Спи спокойно, почтенный старец! Ты прожил жизнь так одиноко! Треск целлулоидных манжет был единственным звуком, который нарушил тишину строгой холостяцкой комнаты в минуту твоей внезапной смерти, когда ты, прохаживаясь среди своих гуашей и акварелей, вдруг упал замертво.