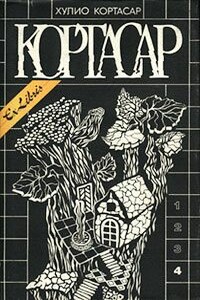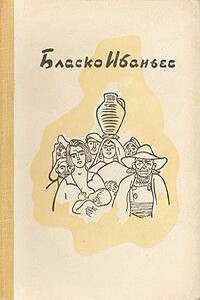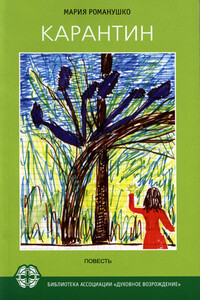Некто Лукас | страница 50
— Друзья, вопрос подобный никогда
не стал бы ставить, я вас уверяю,
писатель, твердо верящий в свое
предназначенье носовой скульптуры,
летящей с носом корабля вперед,
наперекор ветрам и соли. Точка.
А ставить он его не стал бы, ибо
писатель {поэт, рассказчик и бытописатель},
то бишь мечтатель, выдумщик, художник,
оракул, мифотворец и т.п.,
своей первейшею задачей ставит
язык как средство, чье посредство нас
связует постоянно со средой.
Короче на два тома с приложеньем, —
вы недвусмысленно хотите, чтобы
Писатель {поэт, рассказчик и бытописатель},
отверг идею продвигаться с носом,
чтоб hic et nunc[163] (переведите, Лопес!)
застыл и паче чаянья не вышел
за семантические и к тому же
за синтаксические и, конечно,
за познавательные и притом
параметрические рамки смысла,
понятного обычным людям. Хм.
Иначе говоря, чтоб воздержался
от поиска того, что за пределом
отысканного, или чтоб искал,
подыскивая тут же объясненье
искомому, чтоб сысканное стало
подробно завершенным изысканьем.
На это предложенье
отвечу я, друзья:
как можно — быть в движенье,
все время тормозя? (А вышло лихо!)
Научные законы отвергают
возможность столь двояких побуждений,
скажу еще прямее: нет пределов
воображению, как нет пределов
глаголу! Закадычные враги —
язык и выдумка! От их борьбы
рождается на свет литература, —
диалектическая встреча Музы
с Писцом, неизреченного — со словом.
Не хочет слово быть произнесенным,
пока ему мы шею не свернем,
так Муза примиряется с Писцом
в редчайший миг, который мы зовем
Вальехо[164] или, скажем, Маяковский.
Устанавливается довольно пещерное молчание.
— Допустим, — говорит кто-то, — но перед лицом исторической конъюнктуры каждый писатель и художник, если только он не законченный башне-слоново-костист, должен, более того — обязан канализировать свою направленность в сторону наибольшего удобопонимания. — Аплодисменты.
— Я и раньше догадывался, — скромненько замечает Лукас, — что подобных писателей подавляющее большинство, поэтому меня и удивляет столь упорное стремление довести большинство подавляющее до абсолютного! Что вы, рас-так-так, всего боитесь?! Ведь только обиженных и подозрительных может раздражать опыт, прямо скажем, передовой и посему трудный (трудный в первую голову для самого писателя и лишь во вторую голову для читающей публики, и это я подчеркиваю особо), — разве не очевидно, что только немногие могут развить подобный опыт? Не свидетельствует ли это, понимаете, что некоторые слои считают то, что не сразу ясно, преступно темным? Не кроется ли здесь тайное, а подчас и низменное побуждение уравнять шкалу ценностей, чтобы кое-кто мог хоть как-то удержаться на плаву?