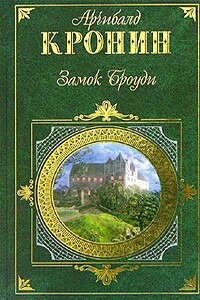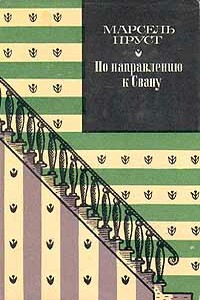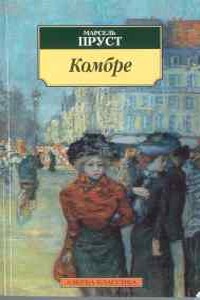Сторона Германтов | страница 99
По дороге к ее дому мы миновали несколько садиков, и я, не удержавшись, останавливался перед ними, потому что они были полны цветущих вишен и груш; вчера еще, по-видимому, пустые и необитаемые, потому что их никому не сдали, внезапно они наполнились жизнью и похорошели — ведь накануне в них прибыли гостьи, чьи прекрасные белые платья виднелись сквозь решетки по углам аллей.
— Послушай, я вижу, что ты, поэтическое создание, хочешь все это рассмотреть, — сказал Робер, — подожди здесь, моя подруга живет совсем рядом, я за ней схожу.
В ожидании я немного прошелся мимо скромных садиков. Поднимая голову, я видел время от времени девушек в окнах; под открытым небом и на уровне надстроенных вторых этажей то здесь, то там в новеньких светло-лиловых нарядах покачивались в листве под ветерком юные гроздья сирени, не обращая внимания на прохожего, чей взгляд долетел до их зеленых антресолей. Я узнавал в них те бледно-фиолетовые клубки, что висели у входа в парк г-на Сванна, сразу после белого заборчика, — клубки, чьи нити готовы были соткаться в изумительную провинциальную шпалеру.
Я вступил на тропу, которая вела на лужайку. Там, как в Комбре, веял пронзительный холодный воздух, но посреди жирной, влажной, деревенской земли — такая была на берегу Вивонны — откуда ни возьмись, явилась прямо ко мне на свидание, вместе с толпой приятельниц, большая белая груша: она улыбалась, выставляя против солнца, словно наглядную и осязаемую световую завесу, свои цветы, содрогающиеся под ветерком, но приглаженные и посеребренные ледяными лучами.
Внезапно возник Сен-Лу вместе со своей возлюбленной, и в этой женщине, в которой сосредоточились для него вся любовь, вся прелесть жизни, в той, чья личность, таившаяся в ее теле, как в дарохранительнице, служила моему другу точкой приложения его не знающего устали воображения, в той, которую (он это понимал) ему никогда не дано постичь, о которой он вечно размышлял, пытаясь угадать, какая она на самом деле, под покрывалом взглядов, под оболочкой плоти, — в этой женщине я мгновенно узнал «Рашель когда Господь»[71], ту самую, что несколько лет тому назад (а женщины в нашем мире, если меняется обстановка вокруг них, так быстро меняются сами) говорила хозяйке дома свиданий: «Значит, пошлите за мной завтра, если я вам для кого-нибудь понадоблюсь».
А когда за ней в самом деле «посылали» и она оказывалась одна в комнате с кем-нибудь, она так хорошо знала, чего от нее хотят, что, закрыв дверь на ключ, не то из осторожности, будучи женщиной благоразумной, не то по привычке, следуя ритуалу, она начинала снимать с себя все одежки, как у врача, который собрался вас выслушивать, и останавливалась только если этот «кто-нибудь», не любя наготы, говорил ей, чтобы она осталась в сорочке, как некоторые доктора, что, имея отменный слух и опасаясь застудить пациента, выслушивают его дыхание и сердцебиение сквозь белье. Я чувствовал, что в ней, чья жизнь, и все мысли, и все мужчины, ею обладавшие, были мне настолько безразличны, что, вздумай она мне обо всем этом рассказать, я бы слушал ее из чистой вежливости, вполуха, — что в ней настолько сосредоточились тревоги, муки, любовь Сен-Лу, что она, та, что представлялась мне заводной игрушкой, стала для него предметом бесконечных страданий, расплатой за право жить. Видя, какая пропасть пролегла между той и этой (ведь я-то знал «Рашель когда Господь» в доме свиданий), я понимал, что многие женщины, ради которых мужчины живут, из-за которых страдают, убивают себя, могут кому-то представляться тем же, чем Рашель была для меня. Мысль о том, что ее жизнь может стать предметом болезненного любопытства, наводила на меня ужас. Я мог бы немало порассказать Роберу о том, с кем она спала, но меня самого это совершенно не интересовало. А какую боль это причинило бы ему! И чего бы он только не дал за то, чтобы об этом узнать, хотя это бы ему все равно не удалось!