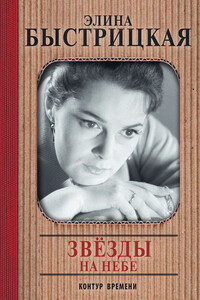То, что нельзя забыть | страница 56
Говорите, хотите, про это,
про несчастья военного лета,
про цветы обожженных рук,
но я слышу железный звук:
вырос черный цветок пистолета.
И когда подойдет мой срок,
как любимой не всякий любовник,
замечательный красный шиповник
приколю я себе на висок.
Отступили вдаль сорок лет жизни! За каменной стеной православного женского монастыря в раздольном бургундском пейзаже, а затем за вечерним столом нашей парижской квартиры я мучительно пытался идентифицировать священника отца Стефана со Стасом Красовицким 50-х годов. Не смог. Не соединились. Два совершенно разных человека и поэта. Отец Стефан отказался от себя, поэта тех лет, Станислава Красовицкого. Стихи продолжает писать, исключительно религиозного содержания. И все это было так необъяснимо для меня, грустно, печально.
В 1957–58 годах именно этой группой поэтов была предпринята попытка связаться более тесно с молодыми ленинградскими поэтами. Интересная была затея, умная, правильная.
Некоторых Бачурин и Хромов привозили в Подлипки. Имен их не припомню. До того, как начал писать этот сюжет, был уверен, что среди них был Евгений Рейн. Ира убедила меня, что этого не могло быть. Что его поэтическое имя мы узнали несколько позже, равно как и Бродского.
Имен не запомнил, а вот картинка одна стоит перед глазами живая, как в раме. Пьяный поэт прилип спиной к кухонной стене в мутном свете загаженной мухами электрической лампочки, разведя широко ноги и руки для устойчивости, бормочет, как шаман, стихи, замолкает и осторожно, чтобы не потерять равновесие, тянется правой рукой к стоящей рядом на кухонной полке банке с сырой рисовой крупой, забирает щепотку, закладывает в рот и яростно мелет ее молодыми голодными зубами, проглатывает и продолжает вновь монотонно шаманить.
Однажды, уже засыпая, Боря Голявкин спросил: «Ты помнишь свое первое эротическое переживание, самое-самое первое?». Воспоминания, унесенные токами времени в прошлое, никогда не переставали меня волновать. Поэтому вопрос товарища вмиг пробудил в памяти и чувствах тот момент, который забыть невозможно, и я с трепетным наслаждением пережил его еще раз.
Мне было тогда около десяти лет. Хозяйская дочка Ганька была на год старше. Мы лежали на печи, куда нас забросили, чтобы не болтались под ногами. Лежа на животах, подперев согнутыми в локтях руками головы, касаясь друг друга крыльями, как ангелы у ног «Сикстинской мадонны» Рафаэля, мы смотрели вниз с печи. В хате бушевало яростное пламя страстного, истерического веселья. В хате были только тетки, если не считать местного гармониста, контуженного еще в Первую мировую. Выпучив залитые хмелем глаза, он растягивал яростно меха, словно хотел их разодрать или вырвать с корнем. Меха тяжело дышали, то страдая низкими, то взвизгивая высокими какофоническими звуками. Тетки плясали исступленно и сосредоточенно, вколачивая в земляной пол низкие широкие каблуки туфель, схороненных с довоенного времени, с круглыми носами и поперечными бретельками на пуговках. Одной рукой они оттягивали подолы юбок, высоко обнажая ноги, давно не мятые мужскими руками. В воздухе стоял тяжелый запах пота, винегрета, сивухи и дешевого одеколона. Казалось, стены мазанки выгибались, не выдерживая напора энергии изнутри. Когда обессилевший гармонист падал на стол, моя красивая молодая мама брала в руки мандолину и маленьким пластмассовым, в форме сердечка, медиатором извлекала веселые и такие печальные струнные щебетания. Мама пела «Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч…». Песня, всегда вызывавшая у меня слезы, в этот день звучала вызывающе весело. Выброс неистового восторга, любовного страстного экстаза был не что иное, как вселенский оргазм зачатия новой мирной жизни.