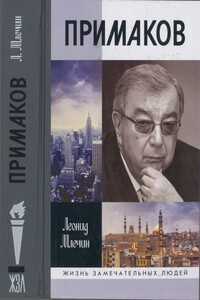Платон. Его гештальт | страница 21
Но еще сильнее, чем киренскому или киническому истолкованию блага, Сократ противился бы новейшей подмене, трактующей agathon как полезное — он, кто своей героической жизнью не меньше, чем смертью, явил благороднейший пример противодействия этой подлой оглядке на то, что выгодно, и значение чего определяется только приносимым результатом. Конечно, нерешенность относительно agathon подводит к вопросу о способствующем (ophelimon), однако смысл последнего состоит не в сохранении жизни или каких-либо благ, ведь в таком случае наилучшими из людей следовало бы почитать мореплавателей и строителей укреплений:[58]«Посмотри же внимательно, мой милый, может быть, благородство и добро все же не в том, чтобы спасать и спасаться?»[59] Поскольку сократический человек не связан ни с каким другим богом, более объемлющим, чем его демон, запертый в границах личности своего подопечного, постольку и его «способствующее» не может привлекать никакая иная цель, кроме как жить в ладу и мире с собственным демоном (эвдемония). Согласие с другими не может возобладать над эвдемонией,[60] не обещает она и ничем не омрачаемого удовольствия, но, как и всякий мир, представляет собой награду, которую нужно дисциплиной и справедливыми поступками добывать во вновь и вновь возобновляющейся борьбе. Но в своем росте agathon и демон, по всей видимости, переплетаются между собой настолько тесно, что благородная позиция, которая не может получать оправдание только от демона, а должна нести в себе некую самоценность, находит последнюю именно в рамках эвдемонии, так что оба они уже не опосредуются способствующим, а, благодаря более строгому членению, его исключают: «К какому же виду благ ты относишь справедливость? — Я-то полагаю, что к самому прекрасному, который и сам по себе, и по своим последствиям должен быть ценен человеку, если тот стремится к счастью».