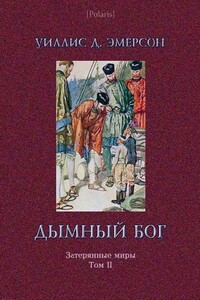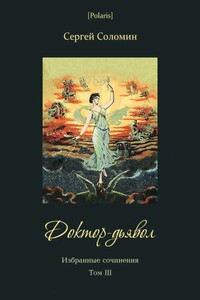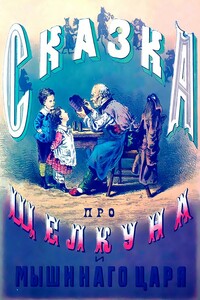Дом под утопающей звездой | страница 12
Ах, эта Европа! Я не люблю ни Францию, ни Англию, ни Италию, ни Россию. Из небольших народов я уважаю, может быть, одну только Норвегию. Эта наша нынешняя Чехия!.. Нет, она не вызывает во мне никакой симпатии. Я знаю ваших соотечественников, знаю, на что они были способны у нас… Ах, это человечество! Грустное, поистине, явление!..
Глаза его горячо пылали. Я взял его за руку, сосчитал пульс.
— Не говорите с таким воодушевлением, — сказал я ему. — Вы грустно правы, но я не буду вас слушать, если вы не успокоитесь.
— Да, да, — усмехнулся он, — я понимаю. Дело идет о моем здоровье, не правда ли? Конечно, ведь это сокровище!.. Ну, так я буду спокоен. И зачем, собственно, я говорил обо всем этом? Ах, да! Я хотел вам рассказать о себе. Удивительно, как человек охотно говорит о себе, как будто у него не нашлось бы поговорить ни о чем лучшем! Да, впрочем, и, действительно, не нашлось бы, так как все эти ближние его совершенно такие же, как он. Но не будем развлекаться глубокими размышлениями. Итак — вот моя жизнь. Не бойтесь, я скоро справлюсь с ней, хотя я мог бы написать о ней десять томов, это мог быть целый новый Gil Bias! Gil Bias[3] — каждый, кто по внутреннему стремлению или под влиянием обстоятельств добровольно покидает родимый угол для погони за иным счастьем, менее определенным, чем нахождение заработка на кусок хлеба…
Итак, меня послали в школу, где успехов я не оказал. Виною этому не было отсутствие особенных способностей: другие и без них учились все-таки и с лучшим, чем я, результатом. Я имел большой и несчастный недостаток, коренящийся в основе моего существа и характера: я не мог отказаться от мечтаний. И не могу до сих пор. Часто случалось, что среди того, что люди обыкновенно называют действительной жизнью, но что, наоборот, скорее есть жизнь искусственная, старательно составленная из самых плоских потребностей, условий, лживости, подлости и отступлений от того, что в нас есть лучшего и наиболее благородного, — случалось тогда, что среди этих серьезно принимаемых банальностей меня поражало вдруг ничтожество и ненужность всего, за чем люди гонятся, из-за чего грызутся, как собаки за кость, и мною овладевало такое отвращение, что я с наслаждением уничтожил бы себя, или, по крайней мере, убежал куда-нибудь далеко, где нет таких отношений.
Еще в средней школе я изумлял людей тем, что у меня принимали за чудачество и упрямство. Я, например, очень добросовестно готовился к экзаменам, как и другие, с намерением хорошо сдать их. Но как только мне приходилось увидеть этих надменных бакалавров, которые по-инквизиторски, со смешно-серьезными минами задавали вопросы, точно желая загнать меня в ловушку, — мне вдруг становилась противной всякая наука, о которой шла речь, а иногда меня потрясал гнев, потому что у меня было такое впечатление, будто эти иссохшие души профанируют предметы, к которым прикоснутся. Гомер в руках такого придирающегося к словам педанта, который о поэзии не имеет никакого понятия, производил на меня впечатление розы в лапах ощупывающей ее обезьяны. История, набивающая наши головы полумертвыми анекдотами, возбуждала во мне отвращение издавна, так как она до глубины души возмущала все существо мое, распевая гимны в честь эллинских героев, сражающихся с персидскими наездниками, и не желая ничего знать о тяготах словацкого народа, восхваляя римскую любовь к свободе и карая, как бунт и преступление, каждое наше более свободное движение!