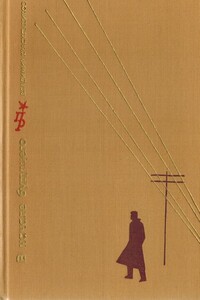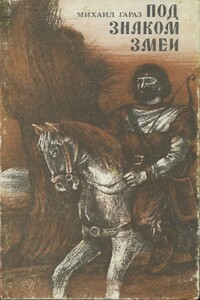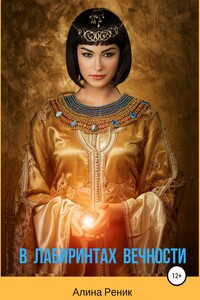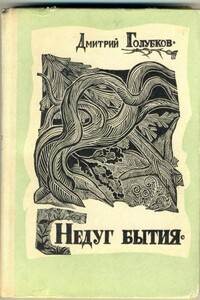Сын эрзянский Книга вторая | страница 57
— Скажи, а твой жена Елена — это красота?
— Что? Что?
— Твой жена Елена — это красота?..— прошептал Степан, вжимаясь в угол, потому что теперь он не на шутку испугался остановившихся на нем выпученных белых глаз Колонина.
— Ах, мой жена! — Колонин отпрянул и разразился истерическим смехом, который, правда, вскоре стал похож на плач. И в самом деле — глаза Колонина заблестели.
— Это одно и то же, это один дьявольский посев, — забормотал сквозь слезы Колонин.— Красота тела, красота ручки, ножки, красота шляпки, зонтика, красота лошади, красота жратвы, черт возьми! — вскричал он, точно переступил какой-то порог. — Это все тот же сладкий небесный яд, но уже изысканный, уже не для лакеев и лавочников, а для сытых, для всех этих солодовых, серебряковых, золотовых. Красота вся эта — их жертва, их добыча, они, как черви, сосут этот яд. Но плоть ненасытна, и белые руки в кольцах и каменьях тоже тянутся к небу: «Дай, господи!..» И он дает им тоже: «Нате!..» Да будь она проклята, эта красота!.. — Колонин замолчал, точно уже изнемог в какой-то нервной борьбе. Пошатываясь, он стоял перед «Параскевой», закрыв лицо руками.
Степан мало понимал из того, что говорил Колонин. Ему было жалко его самого, его лихорадочной ненависти к тому, — и Степан каким-то чутьем понимал это, — чему Колонин отдал свою жизнь, а вот теперь он сам это топчет, рвет в болезненной ненависти и еще больше страдает. Но мальчик, в котором уже властно жил художник, не мог сочувственно внять этой чужой боли, и он скавал:
— Но ты сам рисуешь красоту...
— Красоту, — как эхо, отозвался Колонин надсадным шепотом. — Потому что я ничтожный художник, такой же червяк, как и все, я поддался искушению, я попался на крючок... Ведь это кажется прекрасным и высоким: «Красота спасет мир!» Кто из нас не отдаст жизнь для спасения мира, который всякому гимназисту кажется таким ужасным!.. Господи, но как это все наивно. Как наивны все эти великие Христовы апостолы, эти красноречивые артисты, эти болтуны! Где они были в минуту великой казни? — они были уже на базаре, они торговали заповедями — ведь красивые слова, как и всякая красота, идут нарасхват, а у палачей на красоту особый нюх. Но мало этим базарным артистам оказалось слов Учителя, — ведь они, как это и пристало нерадивым ученикам, очень много спали, они сделали и Голгофу предметом торговли, они заставили распятого нежно улыбаться, они его так удобно и благородно повесили на своих серебряных распятиях!.. Вот с какой лжи началось это великое искусство, и потому оно процветает в этом большом болоте, которое называется миром. Как же оно может спасти его, если у него совсем другая задача?! Разве что-нибудь изменилось со времен божественного Рафаэля? Разве эта хлябь не стала еще ужасней? Разве не изощрились в жратве эти пресытившиеся черви? Разве уменьшается легион лакеев и лавочников, торгующих объедками и подержанной красотой оптом и в розницу? И все мало, мало, мало! Все больше жадных рук тянется к небу: «Господи, дай! Господи, не оставь!» И просящий да получает. И я, грешный, тоже получил... — едва слышно прошептал Колонин, и плечи у него задергались, весь он затрясся от душивших его рыданий, закашлялся, на бледном лбу заблестели капли пота. Шатаясь, он пошел куда-то в угол, задел плечом мольберт, тот с грохотом опрокинулся, «Параскева» вылетела и распростерлась на полу, а Колонин что-то стал искать среди банок и бутылок. Руки у него тряслись. Наконец он вытащил шкалик, но шкалик был пуст, и он швырнул его на пол, прямо в латунную ступку, и шкалик разлетелся в брызги.