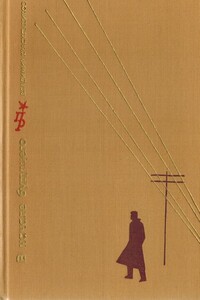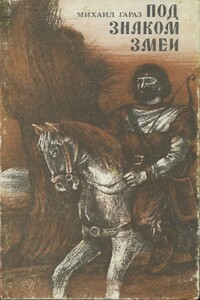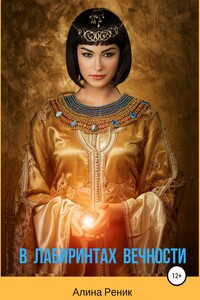Сын эрзянский Книга вторая | страница 55
— Вот, — сказала Елена Николаевна, — Солодов, купец здешний, заказал еще зимой... Уже и человек от него приходил, да когда-то теперь Алексей закончит... — Она махнула рукой и отвернулась — на глазах ее заблестели слезы. — Ладно, — сказала она, справившись с волнением, — раз уж так, приберите здесь, вымойте кисти... — Она ушла, оставив Степана одного на веранде.
Это было какое-то потрясение. Он стоял как оглушенный, он ничего не видел, но в то же время перед глазами расстилался чудесный мир, залитый лучами утреннего солнца, мир, в центре которого, споря с самим солнцем лучезарной красотой, сияли глубокие темные глаза «Параскевы».
Нет, он не спал, все было явью, как и эта женщина, только что стоявшая здесь, на которую он боялся поднять глаза, как этот мольберт, к которому он боялся подойти и потрогал, чтобы убедиться, что это не сон. Вот грязные засохшие кисти, баночки с краской, четверть с маслом, должно быть еще не варенным, а тут скипидар!..
Неужели все это он может трогать, ко всему прикасаться?! Правда, ему велено навести тут порядок. Конечно, он вымоет кисти — уж это-то он умеет, потом выскоблит пол, протрет пыльные стекла!.. Глаза Степана горели счастливым огнем, ликующее сердце готово было выпрыгнуть из груди, и он не замечал, что все ходит и ходит по мастерской, трогает кисти, баночки, перебирает сваленные в углу доски, старые черные иконы, а в груде пыльных картонок под стулом увидел портрет женщины — он сразу узнал в нем свою новую хозяйку. Портрет был тоже не закончен, однако лицо в солнечном свете было так же прекрасно, как и все, что сегодня видел Степан. Он прислонил картонку к стене, а сам опустился перед ней на коленки и так сидел, покачиваясь, точно баюкал в себе доброго бога, к которому он так долго стремился, еще не ведая его, но чувствуя его присутствие в мире, и вот наконец он обретал его, он видел его, слышал его солнечное дыхание.
А между тем это был всего-навсего старый карандашный набросок, уже пожелтевший, и черты женского лица скорей угадывались за воздушной легкостью теней, — так болезненно-робко было прикосновение карандаша, словно сам страх разрушить мечту удерживал руку художника.
Но Степан не видел этой робости, его душе было достаточно затаившейся, готовой угаснуть красоты — одному намеку на красоту, и образ так чудесно и нежно оживал перед ним. И пусть ничего этого не было на желтоватом куске картона, он видел и баюкал, как ребенка, свою красоту. И пусть строгая «Параскева» с укоризной смотрит ему в спину, он баюкает свою мечту, и больше ничего на свете не существует для него!..