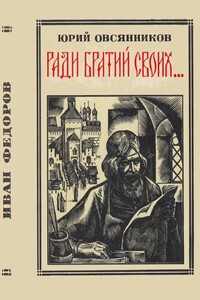Сын эрзянский Книга вторая | страница 19
И как он хорошо сказал о весне. Красота!.. Степану уже было что ждать в этом городе, ради чего жить здесь.
Иван, конечно, и не ведал, что творится в душе младшего брата — он жил сам по себе: про сапоги он не сказал только ради отца, да чтобы и себе зря не травить душу, про весну вспомнил только потому, что сам любил это время, любил весенний праздник. Но Степану все это обернулось спасением на долгие дни, хотя и Степан не знал, не ведал, что только надеждой и можно выжить человеку в этом убогом мире — восторгаясь и проклиная, проклиная и восторгаясь. И хотя никто из должников не отдал в этот день своих долгов Ивану, он не особенно огорчался, — у обоих братьев впервые, может быть, пробудилось и вспыхнуло нежное родственное чувство друг к другу, и огорчения таяли в нем, как свечи. Братья не торопились домой к верстаку, к доскам, к беременной капризной Вере, которая все время сидела и лузгала семечки. Они молча ходили из улицы в улицу, переглядывались, улыбаясь друг другу. А когда Иван заходил в дом какого-нибудь своего должника («этому я делал зимнюю раму»), Степан ждал его у ворот на лавочке. Иногда ждать приходилось очень долго, но это не огорчало Степана. Вот наконец выходил брат, улыбался смущенной виноватой улыбкой.
— Не отдали? — спрашивал Степан.
— Нет, чтоб их черти драли! — беззлобно ругался Иван.
— А ты не делай без денег, — советовал Степан.
— Эх ты, дурачок, — говорил Иван, опять обнимая брата за плечи. — Когда сделаешь, так хоть есть что спрашивать. Потому люди ко мне идут, просят, и как откажешь? «Не делай», — передразнивал он необидно Степана. — Эх ты, дурачок, ничего не знаешь еще...
Это правда, что к Ивану шли люди — Степан скоро увидел их сам. Но заказчики были все мелкие, больше похожие на бедных просителей, чем на щедрых городских покупателей, которых Степан надеялся увидеть. Просили сделать то раму, то лавку, то табуретку и редко что-нибудь покрупнее — стол, шкап, наплавную дверь. Они долго и напористо торговались из-за копейки, грозя уйти к другому столяру, и Иван почти всегда уступал. Потом Степан увидел и другое — не особенно радивый был мастер его брат Иван. Может быть, он поэтому и уступал? А может быть, уступив, он не особенно и старался? Но это Иваново нерадение к своему делу как-то уронило его в глазах Степана. Конечно, он еще и сам ничего не умел, не мог как следует отстругать заготовку, не умел делать и сотой доли того, что умел Иван, но, наблюдая за работой брата, он с какой-то досадой видел небрежность, грубость, суету в его движениях. Да и в самой мастерской, которая помещалась в передней избе, было вечно неприбрано — стружки ворохом лежали у стены, кругом валялись заготовки, обрезки досок, никогда нельзя было найти сразу нужный инструмент. Но Степан мало-помалу с молчаливым упорством осваивал столярное дело. Может быть, он хотел помочь брату, помня его доброту в первые дни и еще храня в глубине души память о том прекрасном осеннем дне? Может быть, он не хотел есть даром хлеб брата и замечать косых взглядов его жены Веры? Может быть, и сама работа увлекала его? Особенно нравилось Степану работать тяжелым яблоневым фуганком. Из-под широкого острого лезвия вилась прозрачной полосой тонкая, как бумага, стружка, обнажая удивительный рисунок, который таила в глубине своей обыкновенная шершавая сосновая доска. А если еще раз пройти, это тихое пламя в дереве вдруг как бы оживет по всей доске темными бегучими краями. Никто не учил Степана выявлять фуганком рисунок в дереве, но когда Иван собрал столешницу из приготовленных Степаном досок, что-то так удивило его, что он долго оглаживал ее, потом отступил в сторону и пробормотал, кося на столешницу: