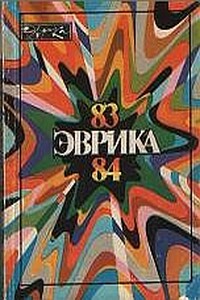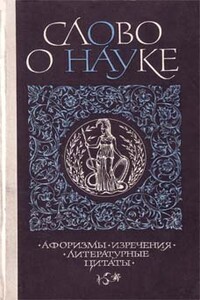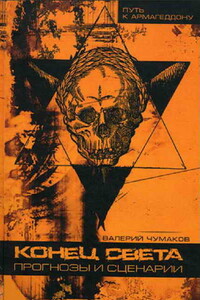Краткая история: Реформация | страница 45
Тон сочинений Лютера об иконах в середине 1520-х гг. отражал обострение противоречий по этому вопросу и проявления разрушительного и несанкционированного иконоборчества, которое стало ассоциироваться с его учением. Произошли незначительные волнения в Виттенберге: во Францисканском доме в конце 1521 г. был разрушен алтарь, и разрушения повторились накануне Рождества. В январе 1522 г. августинцы города разрушили свои алтари и уничтожили образа; вряд ли это можно было назвать массовыми беспорядками, скорее это был знак грядущих событий. В 1522 г. Андреас Карлштадт опубликовал трактат «Об удалении икон» – первый значительный призыв к их разрушению. С июня 1521 г. до начала 1522 г. проповеди и памфлеты Карлштадта развивали эту мысль[142]. Трактат 1522 г. на немецком языке предназначался народной аудитории, представляя собой как оправдание иконоборческих эпизодов в Виттенберге, так и призыв к дальнейшим действиям. Текст начинался с ясного заявления о намерениях:
1. Иметь иконы в церквях и Божьих домах – неправильно и противоречит первой заповеди[143]. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим[144].
2. Вырезать и раскрашивать идолов и устанавливать их на алтарях – еще более вредно и исходит от дьявола.
3. Следовательно, правильно, похвально и благочестиво, чтобы мы убрали их и воздали должное Писанию и таким образом признали его суждение[145].
Ложные и вводящие в заблуждение образы, утверждал Карлштадт, несут духовную смерть тем, кто их почитает. Воздвигнуть статую святого в церкви является знаком любви к объекту, а не к Богу, а богатые украшения таких изображений служат еще одним доказательством того, насколько человек отверг Бога. Карлштадт полагал, что если бы эти образы были только знаками, тогда бы о них так не заботились и не уделяли им столько внимания. Иконы суть идолы, воздвигнутые в Божьем доме, и было просто необходимо отправить их в ад или хотя бы в огненную печь. Идолопоклонство, пропитавшее культ святых, демонстрируемый их изображениями, проявлялось в свечах, которые горели перед статуями, и подношениях, которые прихожане оставляли им в благодарность за заступничество или в надежде на оное. Такое почтение надлежало выказывать только одному Богу, а поступать иначе означало нарушение заповеди. Ветхий и Новый Завет предупреждали об опасностях, связанных с иконами и их почитанием, а значит, их присутствию не могло быть оправдания. По мнению Карлштадта, изображения были и опасными, и бесполезными: они не могли ни видеть, ни понимать и, конечно, не могли функционировать как книги для мирян. Верить, что изображение может приблизить разум к Богу, – значит быть идолопоклонником, как в самом почитании образа, так и в создании ложного идола в сердце.