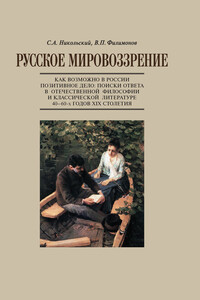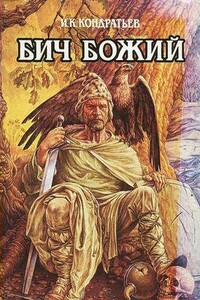Андрей Тарковский: Сны и явь о доме | страница 32
В стихах, которые мы цитируем, духовное не просто соприкасается с грубо материальным. Материальное, как в случае с ампутированной ногой, становится душевным чувствилищем, одуховленной материальностью.
Странствуя по госпиталям, он хорошо познал «громоздкую тяжесть физического бытия». Ее не преодолеть гипотезами о бесконечности и бессмертии «без жизни и смерти». К ней тянется та же душа, будто и не желая эфирной бесплотности. Жизнь души у него осязаемо, зримо, слышимо метафорична. Да, душа жаждет бессмертия как осуществления в мироздании, но, пожалуй, у Тарковского — в стихах, во всяком случае, — она жаждет предметного в нем осуществления.
Картина сродни той, которую видим в «Ивановом детстве», — эсхатологическое пространство мировой катастрофы. Но у отца это пространство выглядит убедительнее. Ведь оно реально пережито, поэтому обретает документальность дневника и в то же время выразительность кинообраза.
Этот «конец света» вовсе и не конец. Мировидение отца не катастрофично. Катастрофично — у сына. Оно трагедийно, да, но без эсхатологии невозвратного уничтожения «ошибочного» мира.
Лирика отца, по сути, опровергает мысль о бесплотности души. В стихах «Эвридика» (1961) твердо сказано:
Дело воссоединения материального и духовного рождается в трудном странничестве превращений, когда можно и утратить предметную осязаемость души, а значит, и ее Дома. Лирический герой Тарковского удерживается на этой грани, поскольку он человек, а не Дух Святой.