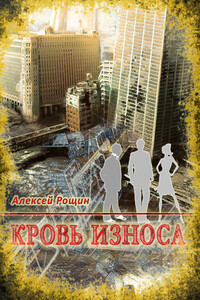Страна утраченной эмпатии. Как советское прошлое влияет на российское настоящее | страница 84
Но, коли так – зачем образование?
Социальные аусвайсы
Если приглядеться к российским учителям, а точнее, учительницам, нетрудно заметить, что их основная проблема – это даже не низкие зарплаты. Более всего педагогическое сословие угнетает комплекс неполноценности: у учителей нет уверенности, что они действительно востребованы обществом. В глубине души они понимают, что низкие зарплаты – лишь следствие общего подспудного родительского скепсиса в отношении школьных знаний.
Впрочем, к ауре родительского скепсиса учителя как-то привыкли – многие родились, когда это отношение было уже господствующим. Однако после падения социализма на школу обрушилась другая напасть – и вот с ней справляться школы до сих пор толком не научились.
Речь об особо чувствительных учениках, уловивших этот растворенный в воздухе «образовательный скепсис» – и более-менее демонстративно отказывающихся учиться. Постсоветский учитель внезапно с отчаянием обнаружил, что у него сегодня в распоряжении почти не осталось средств воздействия на нерадивых учеников.
В СССР существовала продуманная и всесторонняя система контроля над лояльностью учеников.
Для этого в Стране Советов функционировали октябрятские, пионерские и комсомольские организации. На первый взгляд эти организации казались избыточными и чересчур громоздкими – ведь в них заставляли вступать практически всех учеников соответствующего возраста поголовно. Какой смысл в организации, если в ней состоят все?
Смысл, однако, был. Членство во всех перечисленных организациях не давало никаких привилегий и не накладывало никаких особых обязанностей – но сам по себе пионерский галстук или комсомольский значок играли функцию «знака лояльности». Как бы удостоверяли, что носящий их ребенок – обычный, ничем не отличающийся от остальных советский школьник, имеющий те же права и обязанности, что и все прочие дети.
Все, однако, резко изменялось, если ученик этого знака лишался за какие-то провинности – это называлось «исключить из пионеров/комсомола». Отсутствие нагрудного знака сразу же и неумолимо означало, что этот ученик – изгой, пария[29], что его права урезаны максимально. Более того – об исключении сообщали на работу родителей, и это был повод для их морального, а то и даже материального осуждения и наказания.
Таким образом, в советской школе действовала как бы двойная система членства: формальная – «я ученик такой-то школы» и социальная – «я лояльный советский школьник». Членство в пионерии и комсомолии играло роль своего рода «социального аусвайса»