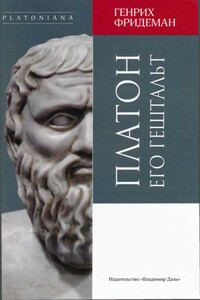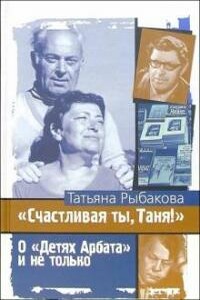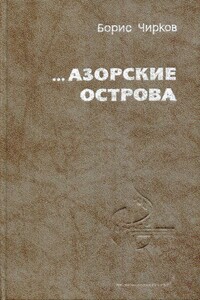Рыцарь Дикого поля. Князь Д. И. Вишневецкий | страница 2
На юго-западе Дикого поля в конце XV — начале XVI века турки-османы для защиты находившихся от них в ленной зависимости княжеств Молдавии (по-турецки Buğdan) и Валахии (Eflak), располагавшихся в дунайско-днестровском междуречье, возвели крепости Азю или Озю (Ozu, современный Очаков) и Джан-Керман (Žan-Kirman, в настоящее время Каховка), которые заперли устье Днепра (по-турецки Ozu), а также Аккерман (Ak-Kirman, ныне Белгород-Днестровский, по-румынски Cetatea Alba) и Килию (по-румынски Chilia), преградившие доступ в район низовьев Днестра (по-турецки Tűrla) и Прута. Кроме того, Оттоманская империя контролировала территорию Бессарабии (Budjak), расположенную между Днестром и Прутом, и переправы на Днестре, для чего турки, начиная с 1491 года, построили там мощную крепость Бендер (Tiagin, нынешние Бендеры, по-румынски Tighina). На юге две мощные турецкие крепости — Кафа или Кефе в Крыму (Kafe, современная Феодосия) и Азак (Azak, ныне Азов), расположенный в устье Дона, защищали Крымское ханство, которое с конца XV века находилось под протекторатом Блистательной Порты (так еще иначе называли Оттоманскую империю).
Также в Северном Причерноморье в низовьях Днепра по соседству с Литвой и Польшей Крымскому ханству принадлежало несколько крепостей, которые служили отправными пунктами всех его набегов и походов в земли Польско-Литовского и Московского государств, а также убежищами на случай ответных действий северных соседей, зачастую дававших резкий отпор степной агрессии. К крепостям, принадлежавшим этому сателлиту Блистательной Порты, относились Ферах-Кермен (Ferah-Kirman, в настоящее время Перекоп) на Перекопском перешейке, Кизи-Кермен (Kyzy-Kirman, современный Береслав) и Ислам-Кермен (Islam-Kirman, ныне Аслан-городок).
Кроме того, степи, простиравшиеся в обе стороны от низовий Дона, находились во владении кочевых племен — Большой (к востоку) и Малой (к западу) Ногайской орды. Однако сам речной путь по Дону не контролировался никем, и здесь проходили только участники набегов — татары, поляки и литовцы или русские[1].
В первой половине XVI века на громадном пространстве Дикого поля, заключенном между этими крепостями, сложилась парадоксальная, по сравнению с Западной и Центральной Европой, военно-политическая и социально-экономическая ситуация. Огромный массив плодороднейших черноземных земель не мог быть не только освоен, но даже и захвачен, так как ни у одной из претендовавших на него сторон не было в достаточной степени ни людских, ни материальных, ни финансовых ресурсов. Реальным, а зачастую и номинальным хозяином того или иного участка степи было то государство, чей вооруженный отряд в данный момент контролировал эту территорию. Фактически, вплоть до середины XVIII столетия основным, если не единственным, содержанием истории Дикого поля была каждодневная партизанская война этих отрядов друг с другом, а также против оседлого или полукочевого населения степных окраин, своеобразная «bellum omnium contra omnes» — война всех против всех. Победительницей в ней, как это и оказалось впоследствии, могла стать только та из противоборствующих сторон, которая оказалась бы способной в своей военно-хозяйственной экспансии выйти к естественным границам Дикого поля и закрепиться на них. Ей стало Московское государство, превратившееся в начале XVIII столетия в Российскую империю, которой сначала для установления своей гегемонии в Диком поле, а затем для завоевания и хозяйственной колонизации его степных просторов потребовалось почти два с половиной века.