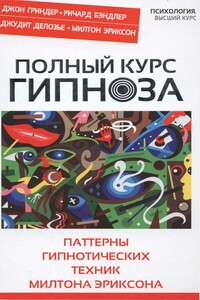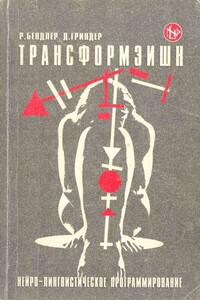Шепот на ветру | страница 68
Эти суждения носителей языка примечательным образом постоянны и, что важно, независимы от уровня формального образования. Последнее различие существенно, поскольку оно позволяет исключить, что такие суждения носителей языка попросту отражают принудительные догмы, установленные грамматиками: эти несомненно благонамеренные люди не принимают во внимание подлинного использования языка.>9
Заметим, что такие интуиции проявляют устойчивость и последовательность при всем разнообразии индивидов, крайне отличающихся друг от друга во всех отношениях, кроме того, что они бегло говорят на рассматриваемом языке. Такое свойство делает это множество интуиций идеальной основой моделирования – то есть развития явных представлений. Конечно, это составляет особую трудность для профессиональных лингвистов. Остается открытым вопрос, есть ли какие-либо другие множества различимых интуиций с тем же поразительным постоянством, какое доставляет нам наш разговорный язык.
Одним из последствий этого различения была поставленная перед лингвистами задача явно описать управляемое правилами поведение, представляемое интернализованной грамматикой. Никогда не было серьезной надежды (во всяком случае в то время), что грамматика – множество явных формальных правил порождения и понимания предложений языка – вообще может существовать, если не удастся отделить от переменных компетентности запутывающее влияние переменных исполнения. Таким образом, это различение сделало возможной некоторую идеализацию в лингвистике, имеющую много общего с идеализациями в других дисциплинах. Например, любой читатель, пытавшийся на уроках физики в средней школе удержать шар на наклонной плоскости, чтобы выполнить измерение в пределах допустимой ошибки, может понять ценность идеализации. Таково намерение, стоявшее за принятым в лингвистике различением компетентности от исполнения.
Эти суждения о естественном языке обычно называются интуитивными: едва ли этот термин может внушить эпистемологическое доверие, поскольку сам термин остается не анализированным. Хотя здесь неуместно устанавливать для лингвистики надежное эпистемологическое основание, мы рассмотрим этот вопрос несколько дальше, чтобы разрешить методологический вопрос – каким образом лингвисты в действительности занимаются своим ремеслом.>10
Одним из самых отчетливых воспоминаний о времени моей (ДГ) аспирантуры (1967-1970) было поведение на нашем исследовательском семинаре моего главного профессора Эдварда Клайма, великолепного специалиста по синтаксису. Когда при рассмотрении на семинаре некоторого интересного синтаксического паттерна кто-нибудь из присутствующих предлагал предположительный контрпример, он реагировал на это, внимательно прослушав предложенный пример; затем, глубоко вздохнув и подняв глаза вверх, слегка поглаживая подбородок, он рассматривал внутренним зрением необходимые варианты, чтобы решить, составляет ли предложенный пример подлинный контрпример. Эти поиски длились в зависимости от сложности вопроса от немногих секунд до нескольких минут, между тем как все остальные, то есть студенты и аспиранты, либо выполняли параллельный поиск, либо с восхищением наблюдали, как этот искусный лингвист решал, существен ли для рассматриваемого паттерна предложенный контрпример.