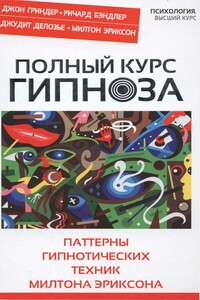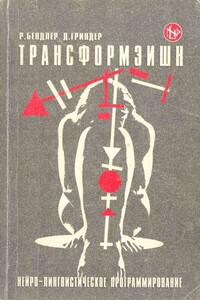Шепот на ветру | страница 66
Второй пример различия между компетентностью и исполнением содержится в предложении:>6
Кошка, которую собака, которую лошадь ударила, прогнала, убежала.
Кроме профессиональных лингвистов, тренирующихся в распутывании всевозможных странных и причудливых компетентностей, все сочтут эту последовательность неправильно построенной – то есть вообще не предложением языка.
Но рассмотрим следующие предложения:
Лошадь ударила собаку.
Собака прогнала кошку.
Кошка убежала.
Собака, которую ударила лошадь, прогнала кошку.
Кошка, которую прогнала собака, убежала.
В конце концов можно собрать все это вместе, восстановив синтаксические метки придаточных предложений:
Кошка, которую прогнала собака, которую ударила лошадь, убежала.
Читатель может понять или не понять это, затратив значительные усилия. Такие структуры называются центрально погруженными структурами – то есть структурами, в которых главный субъект именного оборота (кошка) и соответствующий ему глагольный оборот (убежала) разделены промежуточным материалом.
В данном случае, комбинация подлежащее/глагол (кошка убежала) разделяется второй комбинацией подлежащее/глагол, а именно, промежуточным материалом (собака прогнала кошку). Третья комбинация подлежащее/глагол вставлена как промежуточный материал (лошадь ударила собаку), довершая этим сложность. Говорят, что центрально погруженные предложения перцептуально невозможны, хотя они в действительности дозволены интернализованной грамматикой.>7
Заметим, что примерно то же значение может быть легко представлено, если выбрать не центрально погруженную синтаксическую форму, а именно:
Вот лошадь, которая ударила собаку, которая прогнала кошку, которая убежала.
Отсюда видно, что в основе перцептуальной трудности понимания центрально погруженной структуры лежит не содержание или смысл предложения, а его синтаксическая форма.
Два приведенных сравнительно простых примера объясняют, какие вещи в то время рассматривались как переменные исполнения, и потому относились к психологии, а не включались в корпус, подлежащий лингвистическому описанию. Задним числом можно подумать, что критерии, которыми руководствовались лингвисты того времени, относя приведенные выше примеры к переменным исполнения, и тем самым к области психологии, а не лингвистики, были несколько своекорыстными и тавтологическими. Они были своекорыстными в том смысле, что освобождали лингвистов от обязанности заниматься такими вещами. Они были тавтологическими – как, например, в случае центрально погруженных последовательностей – в том смысле, что эти последовательности порождались по установленному правилу грамматической схемой, и поскольку в таком виде были неприемлемы для носителей языка, то трудность должна была заключаться в переменных исполнения.