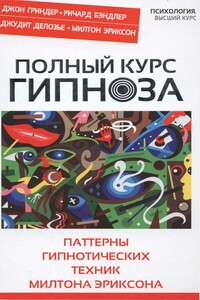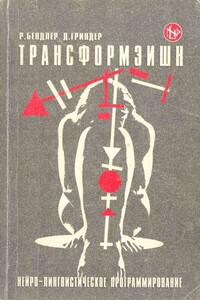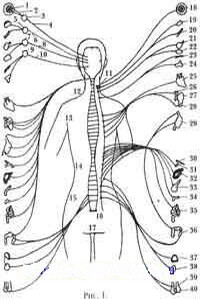Шепот на ветру | страница 61
В мир средневековой Европы пришло новое мировоззрение, столь же общее и преобладающее, каким было только что описанное мировоззрение греков: это была метафора машины. С этой новой точки зрения, не только неодушевленные предметы, но и значительные части живой природы были лишены тех психических свойств, какие им приписывали греки, и были сведены к простым механизмам без малейшей психической деятельности. Животные представлялись автоматами, внутреннее устройство которых описывалось наподобие сложного часового механизма. Люди были весьма увлечены сооружением машин, напоминавших животных – этот образ как будто отражает дух времени.
Поучительным символом этой эпохи, продолжающейся до наших дней, является Декарт. Декарт был философ и математик, живший в эпоху, в которой преобладали религиозные интересы и влияния. Он очевидным образом стремился выделить человека, и особенно отличить его от машин. Он пришел к решению, чрезвычайно вредному в повседневной жизни. Он утверждал, что мы состоим из двух частей: духа и тела. Тело представлялось ему механической системой, весьма напоминающей автомат, тогда как дух был, конечно, чем-то совсем другим. По-видимому, эта дихотомия в значительной степени определила характер философского рассуждения, каким оно было с тех пор, и каким оно осталось до наших дней. Поскольку нас расщепили на части, то возникла особая проблема – как соединить эти две «отдельных» части человека.
Декарт провел линию, разделившую единое целое – человеческое существо – на две части, и тем самым создал проблему, каким образом эти две разделенные части могут воздействовать друг на друга. Этот вопрос весьма занимал с тех пор философов, а также доставил занятие множеству врачей, призванных избавить нас от некоторых последствий первородного греха Декарта – его расщепления человека на дух и тело.
Влияние 20-го столетия
Читатель должен отдавать себе отчет в том, что в любом обзоре исторического развития – ищет ли нынешний исследователь поддержки своих предшественников, или критикует в отрицательном смысле некоторую историческую эпоху – всегда имеется тенденция оценивать эту работу отдаленного прошлого в терминах принятых в наше время представлений и текущей практики, разумеется, с вытекающими отсюда преимуществами. Такие интеллектуальные набеги из настоящего в прошлое почти всегда отдают самодовольством, сознательным или нет.
В нынешнюю эпоху значительную часть происходящего диалога можно понять лишь принимая во внимание, что обсуждение происходит в контексте реакции на весьма влиятельную форму эпистемологии, называемую логическим позитивизмом.