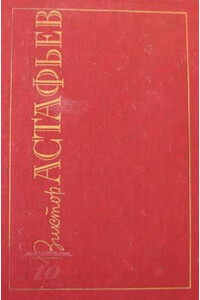Заложники | страница 32
У каждого что-то было, а Лунгин всегда отличался оригинальностью (философ!) - и все обещали, что обязательно попробуют, когда снова занесет в Питер. Тогда он сказал, что и в Москве можно тоже, но в Питере все-таки лучше. Он лично кричал в районе улицы Марата, там, кстати, неподалеку как раз музей-квартира Достоевского, что, несомненно, способствует.
Лунгину намекнули в шутку, что он наверняка был вдребезги пьян, иначе с чего бы, собственно? Но тот шутки не понял почему-то (хотя ведь девяносто процентов, что был) и даже внезапно обиделся, все остальное время просидев молча и насупившись. А на нас всех словно действительно повеяло питерской осенней стужью и черными арочными пролетами. Черный арочный пролет - что нас ждет и кто нас ждет? (стихи Лунгина, который писал не только диссертацию).
В Кривулине же мы действительно видели коренного питерца: чувствовалось в нем. В его, может быть, некоторой суховатости, подтянутости, собранности, даже в тонких проволочных очках, старомодных, каких уже давно не носили, но на его крепком, узком носу с небольшой горбинкой - самое то, стильное, как если бы вместо галстука он носил бабочку или косынку.
Как ни странно, но нам это нравилось - в нем, потому, наверно, что он не старался, а был таким, какой есть. Когда говорил, то очень близко, почти вплотную наклонял лицо к лицу собеседника, глаза за стеклами серые, внимательные - скорей всего, из-за близорукости, а, может, манера такая, и еще любил задавать вопросы, не боялся показать, что чего-то не знает или не понимает, ну да, наивный, что же делать? Питерское это было или какое, но нам нравилось, и когда Кривулин долго не появлялся, то интересовались у Эдика: как там твой знакомый, питерец?..
Время на нас напирало - и когда стояло, тихо закисая, как молоко, и когда вдруг срывалось вскачь, тряско подбрасывая наши занемевшие тела и души, пыталось что-то с нами сделать, а мы, как могли, уклонялись, условленный день, чаще всего воскресенье, вечер, но бывало и в будни, скажем в четверг, и банщики знакомые, Коля или Вася, подсаживались, наливали им - в знак уважения, презенты всякие - они это ценили. Завсегдатаи, одним словом.
Но уже отсеялся от нас Лева Рубин, отъехал в далекие края, в мир загнивающего капитализма, нейрохирург высшего класса, которому не давали, хотя он мог бы запросто стать знаменитостью, гордостью, светилом, славой, с его-то руками и глазом, с его интуицией и выносливостью, и все это, невостребованное, распирало его, выдавливалось наружу колючестью, резкостью, выплескивалось всякими каратистскими увлечениями, пока наконец не взорвалось, и все, не было больше с нами Левы, где-то за пределами прогремело его имя, в чем мы, кстати, нисколько не сомневались.