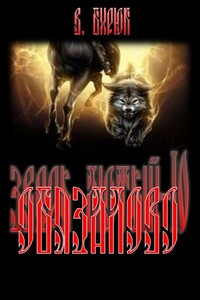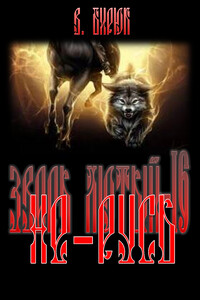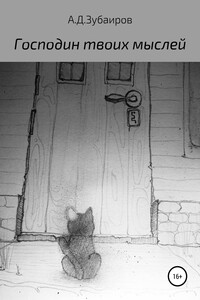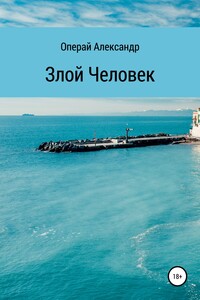Чума | страница 80
Болезни от микробов? — Что за ересь!
В середине XIX в. медики предполагали, в качестве причин болезней, сочетание внешних (нездоровая среда) и внутренних факторов (дисбаланс жизненных процессов организма), влияние наследственности и — особенно — «миазмы» (сточных вод, отходов боен или болотных испарений).
«Воздух свободы», «ветер перемен» или «здесь Русью пахнет!» — тоже про это. Про химический состав воздуха.
Член Академии 80-летний Жюль Герен отказался верить, пытался оскорбить Пастера действием, вызвал на дуэль. Президент Академии с величайшим трудом отговорил стороны от резких действий.
Для доказательства потребовалось сделать «колбу с лебединой шеей» и угробить идею «самозарождения жизни». Возвеличив тем самым Творца: его акт уникален и неповторим.
А иначе как? Если микробы сами зарождаются из воздуха, то их, вместе с качеством вина, неуконтролируешь.
Растворы Пастера, хранившиеся в Политехнической школе, сохраняли прозрачность более 80 лет. Листер годами возил с собой четыре бутылки с мочой, сберегая их на руках при переездах. Показывал коллегам:
— Вот три с длинными «пастеровскими» горлышками. Субстанция — чистая. А вот четвёртая с коротким широким… Сами видите. Вывод? — Микробы вокруг нас.
Пастер много чего успел в жизни. Одна вакцина от бешенства чего стоит. А ещё были лево-правые кристаллы, методы выгонки свекловичного спирта, болезни шелковичных червей…
Но главное — вино. Страна такая, Франция.
Цепочка: вино-брожение-гниение-микробы-болезни.
Не являясь врачом, Пастер вполне понимал значение своего открытия для медицины:
«Если бы я имел честь быть хирургом, то сознавая опасность, которой грозят зародыши микробов, имеющиеся на поверхности всех предметов, особенно в госпиталях, я бы не ограничивался заботой об абсолютно чистых инструментах; перед каждой операцией я сперва бы тщательно промывал руки, а затем держал бы их в течение секунды над пламенем горелки; корпию, бинты и губки я предварительно прогревал бы в сухом воздухе при температуре 130–150 °C; я никогда бы не применял воду, не прокипятив её».
В России…?
Пирогов: «Если я оглянусь на кладбище, где схоронены зараженные в госпиталях, то не знаю, чему больше удивляться: стоицизму ли хирургов, занимающихся еще изобретением новых операций, или доверию, которым продолжают еще пользоваться госпитали у правительств и общества».
Николай Амосов, призванный летом 1941, проводит ревизию выученного им. Вывод:
«Ни опыта, ни традиций, умели только возить раненых на сандвуколках, на поездах, а чаще — на крестьянских телегах. „Терпеливый русский народ…“».