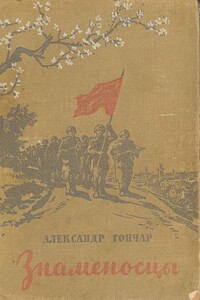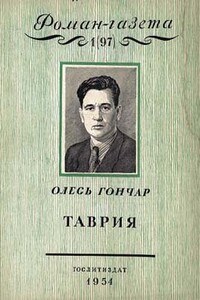Циклон | страница 18
— За травинку…
Молчим. Через некоторое время кавказец вынул трубку изо рта:
— Не за травинку он его.
— А за что же?
— За то, что не раб. За то, что человек. А если человек — на всю жизнь ты враг этой сволочи фашистской…
И трубка снова в зубах. И дальше уже молчим до самой Холодной Горы.
Возле тюрьмы женщины с передачами набросились на колонну, и одна из них, отбиваясь от конвоиров, все-таки успела сунуть Шамилю бумажный кулечек. В лагере, когда развернули, обнаружили в кульке… лапши черной граммов триста… Какое это богатство здесь! Расположились под стеной заговорщической своей троицей и черными от угольной пыли руками бережно развернули газетный кулек. Богачи, мы сейчас должны были разделить его на троих, каждый получит свой паек, получит и съест.
И, осторожно деля, ощутил я вдруг на себе чей-то взгляд, гипноз жажды, молчаливый крик голода. Посмотрел и увидел, как следит за мной, за движениями моих пальцев тот, у которого котелок украли, у которого дома дети маленькие… Нет, он не посмел у нас просить. Тут не раздают. Тут нет щедрых. И, может, именно потому, что он не просил, не канючил, не унизился до этого и что взгляд его какой-то изнуренной честностью словно бы напомнил нам о нормах иной жизни, я, переглянувшись с товарищами, почувствовал их молчаливое согласие: ладно… Не возражаем…
И разделили на четверых.
— Бери, товарищ…
Он не поверил даже. От неожиданности не смог даже поблагодарить. Нагнулся, торопливо сгреб свою долю с развернутого кулька, шмыгнул прочь, провалился в толпе.
Вот когда душа почувствовала облегчение! Впервые после дней и ночей неволи, после всех унижений плена каждый из нас пережил миг обновления, словно бы просветленными глазами посмотрели мы друг на друга… Ведь если нашлось в тебе нечто такое, что победило спазмы голода, крик желудка, — ты еще не зверь, ты еще человек!
Будет разворачиваться дальше лепта жизни Решетняка. Ничем внешне не примечательная, она, эта жизнь, хотя на мой взгляд не менее важная, чем жизнь какого-нибудь прославленного маршала, или мореплавателя, или ученого, расшифровывающего загадки древнейших клинописей. И пусть сейчас не особо высокие материи его занимают, — быть может, сейчас он больше озабочен, где бы найти кусок консервной жестянки, чтобы смастерить котелок, чем мыслями о вечности и загадке бессмертия, — все же от этого его жизнь не теряет для меня своей значительности. Она ценна, как редкость, как вершина творения, в котором заложена сама тайна бытия. Драгоценна уже хотя бы тем, что единственная. Неповторимая. Что кто-то его ждет, вот таким кто-то любит, что для кого-то он дороже всего на свете.